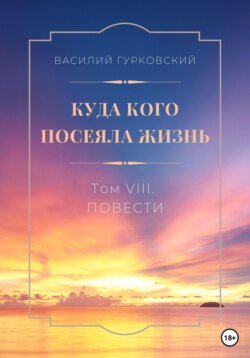Читать книгу Куда кого посеяла жизнь. Том VIII. Повести - Василий Гурковский - Страница 9
Водочный транзит
(Публицистическая повесть)
Глава восьмая
ОглавлениеЗа большим селом Чобручи, которое дядя специально проехал насквозь, чтобы племянники его посмотрели, – съехали с районной трассы и проехали до «главного вала», то есть магистрального оросительного канала, который проходит через половину района и питает днестровской водой всю оросительную систему, закольцованную на мощности данного канала. «Это старая и несовершенная сеть, построенная еще в тридцатые годы. Да, она дает возможность поливать, но из-за разных причин бывает так, что мы качаем значительные объемы воды, из Днестра…в Днестр. Это отдельная тема, но я вас привез сюда не канал показать и воду, а вот слева – посмотрите на эти красавцы – огромные ореховые деревья. Я не знаю, кто садил этот ореховый сад, и садил ли кто его вообще, но это – просто чудо. Можете поискать себе грецких орехов. Таких плодов, я больше нигде не видел, включая и Среднюю Азию. Там они из-за жары, – мелкие, сжатые, мякоть не выдерешь из скорлупы, а здесь- посмотрите какие. Приятно даже взять в руки, тем более- скушать. Здесь и масса плода и вкус, – особенный, попробуйте….
Полакомившись орехами, – двинулись дальше. Между селом Чобручи и родным селом дяди Виктора, Слободзеей, разместился большой яблоневый сад, еще «старого» типа, с большими деревьями. Сад был чобручского колхоза, и подходил вплотную к крайней, с юга, улице Слободзеи.
«Сколько я претензий принял за годы своей работы в районе, именно по этому саду – смеясь вспоминал дядя. – Причем с обеих сторон. Чобручане жаловались, что мои земляки – слободзейцы, воруют у них по ночам яблоки, и никакие преграды их не останавливают. Вырыли по границе сада глубокий и широкий ров, залили водой, вроде бы, как осушительный канал, так слободзейские, наделали перекидных мостиков. Пригласили для охраны сада собаководов, аж из Харькова, со служебными собаками, за большие деньги, так слободзейцы – наловили по селу кошек, накрутят им хвосты и бросают в сад ночью. Кошки с перепугу орут, собаки за ними в темноте гоняются и никакие команды охранников не выполняют, а похитители – спокойно яблоки воруют….
А со стороны «похитителей», даже давно мне знакомых еще со школьных лет, при встречах, тоже претензии: «Что за дела!? Сторожа в Чобручах требуют ночью за мешок яблок – пять рублей, а слободзейские сторожа, требуют – десять рублей! Ты в районе начальник по экономике – что не можешь одинаковую цену установить?!». Попробуй тут угоди обеим сторонам!.
Въехали в Слободзею. Этот поселок не только родина дяди Виктора, он стал уже близким и родным для многих земляков Григория и Михаила и не только родственников, но и их друзей и близких знакомых. Все они прошли через дядю Виктора. Всех он принимал, а потом – помогал и в поисках жилья, и в трудоустройстве, и в других текущих жизненных вопросах. Практически все – освоились, живут и работают, уже у них и дети пошли, местные, Слободзейские.
Дядя показывал, что, где и как. Вон слева – новая, большая, пятиэтажная райбольница, принимал участие в её строительстве. Справа- пожарное депо, удобно расположено на районной трассе, за ним – Управление – энергосбыта, дальше крупное районное транспортное объединении Колхозтранс. Все колхозы имеют свои автопарки, в первую очередь, для внутренних нужд, а для масштабных перевозок, как раз и используются машины Колхозтранса. Рядом с ним- районное объединение «Сельхозтехники». Через дорогу от него – крупный районный хлебозавод.
Дядя остановил машину у ворот «Сельхозтехники» и сказал племянникам: «Все похожее, вы можете увидеть и у себя, и где угодно. Но сейчас я вам покажу нечто простое, но полезное и интересное, чего вы нигде, подчеркиваю – НИГДЕ! Больше в Союзе – не увидите!. Здесь – рядом, спустимся вниз, к Днестру и я вам это покажу. Проехали всю, так называемую, «русскую часть» насквозь. По дороге он показал школу, куда он ходил в свое время, показал дом, где родился и жил до начала войны, а потом они выехали на летний пляж на берегу Днестра. Купальный сезон давно закончился, но дядя привез их сюда – не купаться. Рядом с пляжем, стояла небольшая эстакада, под неё можно было подъезжать большой машиной. Сверху, на эстакаде, стоял небольшой накопительный металлический бункер, открытый сверху и, с открывающимся люком – снизу.
От бункера, по дну Днестра, лежала 300-милиметровая труба, выходящая на противоположный берег. Там она соединялась с другими емкостями, куда поступали и дробились помидоры от расположенного на той стороне совхоза. Совхоз в то время, производил до 40 тысяч тонн овощей в год, в основном- томатов. Это, как сказал дядя, почти в 10 раз больше, чем производила (тоже в год), вся их область, где они сегодня живут. Перерабатывающие заводы – далеко, мосты через Днестр – тоже далеко. Если возить овощи от урожая, через паром – несколько лет потребуется, поэтому умельцы – инженеры, нашли простой, но эффективный, да и ЭФФЕКТНЫЙ! Способ переправы через реку – дробленная томатная масса, разбавляется до нужной консистенции водой и эта «пульпа», с помощью насоса, подается по трубе на другой берег. Машина с цистерной (пульповоз), подъезжает под эстакаду, набирает цистерну и отвозит на консервный завод, а следующая машина, занимает её места под эстакадой. И так – практически- круглосуточно, если есть, что возить. Очень оригинально, просто и выгодно для всех сторон-участников.
Гости посмотрели пару машин, как они заполняли свои цистерны- понравилось. Полюбовались Днестром, его быстрым течением и окружающими видами, и, как раз в это время где-то рядом, раздался мощный гудок, обычный для Виктора и непонятный для гостей. А – через пару минут, из-за речного поворота, справа, вниз по течению, показался нос большой плоскодонной баржи с песком, которую сзади толкал небольшой, но, видимо, достаточно мощный, катер. Во времена молодости Виктора, похожие баржи, катера буксировали с помощью троса, это было не совсем удобно при сильном течении и извилистости русла Днестра, а сегодня – придумали способ не тянуть, а толкать. Возможно так лучше, для катерников. Ну – это их вопросы, а наша троица, просто полюбовалась этим зрелищем: тяжелая баржа и небольшой старательный «толкач», в сцепке, быстро проплыли вниз по течению. Проплывая над «томатной» трубой и видя трех мужиков на берегу, катер дал длинный годок и, через несколько минут, скрылся за поворотом, вниз по течению.
«Можете смеяться с нас, дядя Витя, – довольно проговорил Михаил, – но мы, с Гришей, первый раз в жизни увидели плавающее судно, пусть и небольшое, но – настоящее, да еще в сцепке с такой большой посудиной!. А как они проходят места, где работают паромные переправы?. Ведь, наверное не одна такая баржа ходит по Днестру?».
«Да, – ответил Виктор- катера и пассажирские теплоходы, передвигаются по реке довольно часто, особенно – летом. Но это – одна фирма – Речное пароходство. И катера, и теплоходы, и баржи, и паромы – все подчиняются одному хозяину. У них свои правила движения, как у нас вами – дорожные правила. При подходе к парому, на определенное расстояние, катер дает гудок или условные гудки и паромщики на время, опускают паромный трос – на дно, который после прохода плавучего средства, тоже в определенное время, специальным воротом, снова поднимается на свое место, над уровнем воды. У тех и других, есть расписание движения, но точно не всегда его выдержишь, поэтому – дополнительно посылают предупреждение гудками.
Конечно, и здесь всякое бывало. Бывали случаи, когда «пьяные» катера врезались в паромные тросы, бывали случаи, когда паромы уходили в свободное «плавание» по реке, но это относится больше к курьезным случаям, чем к какой-то системе. А в принципе- это очень серьезная и ответственная работа, как и у вас, водителей. Где техника и люди- всегда должен быть нормативный и исполняемый порядок, иначе – будут проблемы».
Подошли к воде. «Летом, здесь на пляже, многие десятки людей, купаются, загорают. дно здесь твердое чистое, а вода все равно – мутноватая, а сейчас, видите, какая чистая, но уже довольно прохладная – заметил дядя. – Раньше у нас, местных пацанов, был такой неписанный, но непреложный закон: – чтобы ты мог выйти «на улицу», то есть гулять со всеми своими уличными ребятами, Первое – что ты должен уметь делать—переплывать Днестр, а он, как вы видите, довольно широкий, второе- уметь ездить на велосипеде (чтобы все это видели), и – третье …курить, тоже, чтобы все видели….Вот такие были жесткие условия в мои детские годы. Ну, это только – если хочешь выйти на «улицу». А кто из пацанов, переживших войну, в то время Этого— НЕ Хотел?!Вот мы и старались, закалялись, тренировались. Поэтому наша Слободзея и соседние Чобручи, – многие годы, были основными поставщиками матросов для Военно-морского флота. Голодные, босые 7–8 месяцев году, мы до армии, не знали никаких болезней, лекарств и докторов. Наверное, это было правильно».
«Вы так много знаете, дядя Витя! Где вы всему этому научились?! Насколько нам известно, вы с 14 лет официально работаете. И на тракторе работали, и на комбайне хлеб убирали, целых десять сезонов, и на машине работали! Правда, что вы и целину пахали в наших краях?!» – обратился к Виктору Григорий, пока они шли к машине. – «Когда вы все это успели собрать в себе, воедино?!».
«Знаете, друзья мои, – серьезно ответил дядя, – честно сказать – я ничего специально не собирал. Повторяю- НИЧЕГО!. Это ОНО все во мне собиралось. Я просто всегда делал то, что было надо делать. Причем – Надо – не для меня, а для всех. Надо было пахать, ту же целину – Пахал. А целина – это не зябь пахать после уборки. Целинная земля – не пахалась, не то, что тысячи лет – а – НИКОГДА!. Пашешь её, особенно ночью, трактор на первой скорости и то тяжело, тянет трехкорпусный плуг; язык пламени в ладонь длиной, стоит над выхлопной трубой, первая скорость – это три километра в час, меньше, чем нормальным шагом….А почва такая плотная, тяжелая, с песчинкой и обязательно с мелкими округлыми камешками, почти всегда. И вот едешь- на такой малой скорости, слышен стук каждого башмака тракторной гусеницы о направляющее колесо, уже этих ударов и не замечаешь. И так ходишь из края – в край по огромному, тысяче гектарному полю, один, прицепщиков нам, молодым не давали, да и не было их, тех прицепщиков в наличии, в Казахстане, в те времена. На тракторы некого было сажать, что уже говорить о прицепщиках!
А за один проход по полю от начала до конца, сзади тебя остается только узкая полоска в 1,35 метра. А норма выработки за смену – была 3 гектара! Попробуй вспаши её – узнаешь, что такое – Целина!. Сделаешь норму – начислят 6 трудодней или гарантировано – получишь – 30 рублей. Для сравнения – бутылка водки «Московская», в то время, стоила 28 рублей 70 копеек, то есть- выполнишь норму, заработаешь на бутылку водки. Это для сравнения. Так как мы работали по 11–12 часов, то при удачном раскладе, пахали по 5–6 гектаров за смену, то есть за половину суток.
Убирал я хлеб и на комбайне. Да- десять сезонов в общем. Причем – только четыре из них, как комбайнер, а остальные шесть сезонов – в разных ипостасях, главного экономиста колхоза, освобожденного комсорга войсковой части и, даже, когда возглавлял экономическую службу родного Слободзейского района. Меня просили, небыло кому косить хлеб, я использовал свои отпуска и ехал в родной мой колхоз, в то село, где вы сегодня живете и помогал, чем мог, то есть – садился на комбайн. Поверьте, менять карандаш или ручку, на штурвал комбайна, тем более, сходу, без всякой подготовки- не очень-то приятно. Приходилось – и возить зерно на машине, тоже в ваших краях. Так что «всему этому», как вы говорите, я не учился, жизнь меня учила и спасибо ей за это. А специально, я учился другому – сельской экономике, разным её уровням и, уверяю вас, чему-то все-таки научился. Так из того, пятнадцатилетнего пацана, вырос я сегодняшний…. Рецепт здесь простой. – Не бойся, не стесняйся и учись, учись. Учись, как говорил наш вождь, в свое время. Того же я и вам желаю, дорогие мои. И еще- помните, – возраст в учении, любом, – не помеха. Я это понял и благодарен за это судьбе и окружающим меня, все это время, – людям!».
Они подошли к машине. Было заметно, что гости не спешат расставаться с этим интересным для них местом. Вроде бы – все кругом опустело, людей нет, пляжный песок топорщится сухими корками, ветерок дует прохладный, а все-таки чем-то это место притягивало, не отпускало просто так. Посмотрели еще на несколько машин, забирающих томатную пульпу, попрощались с быстрыми днестровскими водами и – сели в машину.
Хозяйственный Михаил тут же спросил: «Дядя Витя! Я вот смотрел со стороны на вашу машину, она, как будто бы вчера вышла с завода!. Где и как вы её взяли- такие же не продают частным лицам?!».
«Это, ребята очень длинная и не очень приятная для меня история, в общем плане, хотя – приятная уже тем, что я имею её, эту машину и на законных основаниях» – начал дядя. – дело в том, что я собирался вернуться в Слободзею, когда вашей тете, моей жене, врачи порекомендовали сменить климат- стало трудно выдерживать холода в Казахстане. Будучи на сессии в Москве, решил после её окончания, заскочить на день в Слободзею. Раньше я написал письмо председателю Межколхозсада, который вы сегодня видели, рассказал о себе, сказал, что работаю главным бухгалтером колхоза и поинтересовался насчет работы по моему профилю. Они как раз тогда по всей стране разослали приглашения. Получил ответ- приезжайте – поговорим, посмотрим. Вот я и решил после учебной сессии, заскочить сюда на пару дней. Никаких потерь времени у меня не предполагалось. Поездом – до дома – двое суток, самолетом до Кишинева и потом – домой – хватит одних суток, тогда до нашего областного центра из Кишинева ходили два рейса, очень удобно было; и один день – на посещение Межколхозсада, то есть- в общем – те же двое суток. Так я и сделал. В итоге – в Межколхозсаде у меня ничего не получилось, очень не понравился мне тогдашний его Председатель. Я понял, что с ним работать не смогу. Заехал в райцентр, познакомился с коллегами в районном совете колхозов. Они взяли меня на заметку, сказали, что если придется нашей семье переехать, то можно придти в Совет, с работой они что-то придумают.
Мы переехали в августе, были дома у отца уже часа в четыре дня, а на второй день я был принят на работу в районный совет колхозов. Для меня это был тяжелейший период. Вы знаете, что в поселке я был авторитетным человеком по многим направлениям. Было время, когда начальник нашего районного ГАИ, – местный, казах, приезжал ко мне и просил помочь в решении отдельных вопросов на областном уровне, причем – по линии ГАИ!!!. Хорошо знали меня и районе, и в соседнем Орске.
А когда вернулся, казалось бы на родину, домой, к отцу – сразу стал – никем! Все совсем другое: другое производство, другие культуры и технологии их возделывания, другая организация труда, а Главное- Другие люди! Мне шел тогда 37-й год, а надо было начинать все сначала. А уже трое детей, а старшей дочке, окончившей школу, – надо учиться, а жить – негде, и вокруг – вроде бы все знакомое, но ставшее чужим. Было рядом несколько моих бывших одноклассников, но, после моего двадцатипятилетнего отсутствия, – у них появились новые друзья, новые дела и новые заботы. Я для них стал просто знакомым из детства. Многие моменты текущей местной жизни, обычные и незаметные для тех, кто ими жил, – для меня – нуждались в изучении и освоении.
Пришлось вспомнить, как начинал, тоже сначала, после службы в армии, опять работать по ночам, но уже не учиться, а изучать по факту то, что для других было обычным делом. И – получилось. Люди заметили, не только мои знания, но и старания. Через год, один только я знаю, как он мне достался! я стал начальником Учетной службы районного Совета колхозов, а еще через время, возглавил всю экономическую службу Слободзейского районного Совета колхозов, а это 85 % аграрного сектора нашего района.
Когда показал себя и освоился – встал в очередь на машину, пока были деньги. Стоял в очередь восемь лет и чем дольше стоял, тем дальше отодвигалась моя очередь….Когда спрашивал – почему это так, меня каждый раз стыдили, что, мол, надо давать тем машины, кто в поле трудится, ну а я вроде, как и не тружусь, с 14-ти лет, на том же поле….Ну, что тут скажешь?!. Те, кто меня стыдил, что я такой несознательный, поменяли и перепродали уже по несколько машин. Имели возможность, а я не имел….
Потом, как-то случайно, увидел в гараже одного начальника, старый, побитый и ржавый, кузов восьми местного ГАЗ-69. Машина еще не была списана с учета, но уже много лет не работала и была полностью разукомплектованной. Я попросил отдать тот кузов мне.
Машина числилась на балансе объединения по механизации, её легко передали мне в пользование, легко потому, что никто не верил, что её возможно – восстановить. Я тогда ездил на микроавтобусе – ПАЗ, как заместитель председателя Райсовета, и мне очень было неудобно иметь такой транспорт, который постоянно кто-то просил, а по выходным к тому же, его отдавали (в охотничий сезон) нашим охотникам – любителям, так как он подходил по всем критериям – и вместительный, и вездеход…
Нашел я одного частного прекрасного мастера – кузовника и, через пару месяцев – получил от него этот кузов….Как видите – он действительно был МАСТЕР!. Пришлось купить новую резину, тент, сидения, всю проводку и многое по мелочам. И – вот что получилось! Машина – как новая!. Когда она была почти готова к эксплуатации, я написал заявление на право её приобретения, прошел все необходимые инстанции и получил везде – разрешения. Уже был восемьдесят пятый год. Пришел во власть Горбачев М.С. и такие вопросы стали решаться более демократично.
Но, как только я приобрел эту машину, во все инстанции посыпались жалобы, доносы и гневные письма, в основном от моих же коллег, которые посчитали, что я их «обошел». Пока кузов несколько лет валялся и ржавел – никто не видел, а как увидели машину на ходу – «жаба заела». И народный контроль, и прокуратура, и разные общественные организации, долгое время терзали меня, а потом отстали, – не было за что зацепиться, официально – все было сделано по закону и машина осталась у меня, да и я остался на работе. После этого, мне расхотелось работать с такими коллегами и, когда предложили перевод в Тирасполь, сюда, где я сегодня работаю, – согласился и не жалею.
Помню, когда я первый раз приехал на этой машине, на работу, у многих был просто шок, самый настоящий, особенно у нашей группы «любителей – охотников». Зависть – болезнь опасная и заразная, всегда помните об этом, дорогие мои родственники!».– закончил свою информацию дядя Виктор.
Потом спросил: «Ну, дорогие гости, устали, наверное, думаю, с вас новостей хватит, а то – домой не довезете, тяжело будет. Давайте определимся – где вы сегодня ночевать будете?. К нам поедем или останетесь у родственников, ночевать, а еще сегодня и завтра – походите по другим родственникам и знакомым?».
«Останемся здесь, конечно! И сегодня еще успеем кого-то навестить и завтра продолжим. А к вам прибудем завтра к вечеру, приготовимся и послезавтра, пораньше, будем выдвигаться домой. В гостях – хорошо, но дело есть дело, а нам еще через полстраны ехать надо!» – ответил за обоих Михаил.
«Тогда давайте сделаем так, – сказал дядя Виктор. – «раз уж большинство родственников и земляков, живет на русской части села, то и посещения начнем с этой части». Гости- согласились.
Пока поднимались от пляжа в село, дядя Витя и здесь добавил немного истории. «Слева – сказал он – видите большой дом у дороги, с двумя входами. Здесь долгие годы, была контора одного из колхозов. А дом напротив – сельская баня этой части села. Помню, как её строили. Я вам показывал дом, где мне довелось родиться, его отсюда хорошо видно и окно из его кухни в эту сторону смотрит. Когда дедушки и бабушки моих не стало, в том доме жил мой дядя, младший брат отца. Как-то я пришел к ним, сижу на кухне, смотрю в окно. Дядя говорит: «Сейчас смотри, время к обеду, бригада, которая строит баню, обязательно кого-то пошлет на колхозный склад, за вином. Пошлют самого молодого и непьющего, чтобы по дороге не пил из ведра». Действительно, через какое-то время, из строящейся бани, вышел молодой парень с эмалированным ведром, накрытым крышкой и отправился в сторону колхозного двора, который был метрах в двухстах вверх по вот этому переулку, он идет влево от главной улицы, а, минут через двадцать – вернулся обратно, уже с полным ведром.
Раньше колхозникам – любителям выпить, жилось неплохо. На колхозном винном складе, можно было зайти, выпить пару раз по пол литра вина, подряд или утром-вечером, кладовщик поставит в заборную ведомость цифру -1, то есть – 1 литр, пьющий поставит свою подпись – и довольный, – уходит. А потом бухгалтерия за этот литр высчитает с пьющего деньги, в конце года, при итоговом расчете. Естественно, всем подряд кладовщик не наливал, а то все бы ходили пьяными, а только «авторитетным» людям – бригадирам, членам правления, друзьям-родственникам и – кому он сам посчитает нужным, ну, естественно, тем, кому выписано разрешение от председателя.
Помню – один раз на отчетном колхозном собрании, я присутствовал (пацаны ходили на собрания из-за бесплатного кино), председатель колхоза в своем докладе перечислял, кто больше выпил вина по ведомостям. Объявляет нашего соседа по огороду- бригадир Андрей Петухов, выпил за год 28! Ведер вина. Сидящая в зале, рядом с тем бригадиром жена, как зашипит: «Ты что же гад, у тебя, что дома вина нету?!», а бригадир ей в ответ: «Так ты же не даешь мне утром выпить, вот и приходится брать в набор!». Смех в зале и аплодисменты….
Вход в баню сделали прямо с торца здания, с главной улицы, второй вход – был сбоку, напротив конторы, там тогда был – БУФЕТ! Наверное, не одну железнодорожную цистерну вина пропустил через себя тот буфет. Особенно страдали от него отдыхающие, которых, в прежние годы, было у нас действительно много – из Москвы, Ленинграда, Мурманска и других северных мест. Они считали наше вино за квас и пили его, как квас, потом так – поодиночке или группами, тихо лежали здесь по обеим сторонам дороги и не понимали – где они находятся и что с ними происходит….
Выехали на главную улицу этой части села.
Первым по пути следования, жил еще один «настоящий» дядя, Павел, родной брат обеих тещ, Григория и Михаила, заехали к нему. Дома не было никого. Старшие, как оказалось позже – были еще на работе, а младшая дочка, гуляла с подругами по улице. Увидев, что к дому подъехала машина – прибежала, поздоровалась, ни Григория, ни Михаила, она не знала, да и её родители не знали, что гости приехали, телефона у них дома не было. Виктор сказал, чтобы она сообщила родителям о приезде гостей и что они будут, скорее всего, у Оли, дочки старшей сестры Павла, живущей на молдавской части села. Отец номер телефона знает, пусть позвонит из конторы колхоза, она – рядом, и пусть договорятся между собой, где и когда – встретятся, если захотят.
По пути подъехали к «Чайной», она недалеко от дома дяди Павла. Там хозяйничала буфетчица – Люда Кобылянская, бывшая одноклассница Виктора. Она его много лет не видела, понятно – что не узнала, да и он не стал представляться ей и напоминать о школьных годах. Просто втроем пообедали, а то – возможно, и других родственников дома не застанут, поэтому – подкрепились на всякий случай и двинулись дальше.
День клонился к вечеру, но из трех посещений домов земляков, только в одном из них оказалась дома мать хозяев. Они не были родственниками, просто хорошие знакомые семьи дяди Виктора, но посетить их было надо для «отчета» по приезду домой. Их родственники в казахстанском поселке, обязательно спросят кто., где и как, так что надо было со всеми, если не встретиться, то, хотя бы переговорить по телефону. Решили это сделать с помощью Оли, родной старшей сестры жены Михаила. К ней домой сразу не стали ехать, дядя Виктор знал, как её найти, она раньше, тоже работала в системе Совета колхозов. Когда нашли Олю, она очень обрадовалась и сразу предложила своякам – переночевать у неё. Как раз она получила новую двухкомнатную квартиру в центре Слободзеи, так что проблем с размещением гостей у неё не было. Она сказала, что постарается связать ребят с земляками и родственниками, даст им возможность и поговорить, и по возможности- встретиться, сегодня или завтра. Так как Виктору было необходимо встретиться вечером с Генеральным директором, чтобы доложить об итогах его поездки в совхоз на партийное собрание, то он, оставил по просьбе Оли, гостей у неё, а сам – уехал в Тирасполь.
Там встретился с директором, доложил о том, как прошло собрание. Генеральный уже получил информацию от директора совхоза, поблагодарил Виктора за его достойное участие в рассмотрении персонального дела, как он выразился «нашего» главного бухгалтера и предупредил, о возможных провокациях со стороны представителей руководства соседнего района. Виктор тоже поблагодарил за предупреждение и возможную поддержку, если в этом появится необходимость.
Потом обговорили некоторые текущие вопросы, а в конце беседы директор сказал: «У тебя, да и у нас тут сегодня, был не простой день. Время уже позднее, давай прочистим слегка, наши внутренности от ржавчины! И пойдем домой».
Он достал из своего сейфа, подаренную ему Виктором, год назад, пол литровую охотничью флягу из нержавейки, принес две небольшие рюмки, отвинтил пробку и приготовился наливать. К удивлению его, в первую очередь, фляга оказалась пустой, абсолютно…. Директор повертел её в руках, заглянул вовнутрь, постучал, подул в её горлышко…Пусто! Посмотрел на Виктора и растерянно произнес: «Я не пил, честно. И ключ от сейфа – никому не давал»». И снова дважды повторил: «Честно не пил, не пил!».
«Да я верю, успокойтесь!» – пробовал утешить его Виктор- но директор не мог успокоиться и все повторял: «Куда же он (спирт) делся?!». Год назад, Виктор привез директору в подарок из Москвы эту фляжку, наполнил её спиртом…. Осмотрели сейф, обнюхали его. Ничего – ни влаги, ни запаха, ни спирта….
Виктор чтобы разрядить как-то обстановку, положил в боковой карман злополучную флягу, сказал, что завтра разберется в том, что с ней случилось, потом быстро сходил домой, принес бутылочку- «чекушку» на – 250 граммов спирта, выпили по рюмке, определились с планами на завтрашний день и пошли по домам. Как обычно, минут двадцать проговорили у дома, где жил Виктор. Это у них стало уже традицией: директор и заместитель, после окончания рабочего дня, часа три-четыре – продолжали работать. Кроме них и охранника, в главном здании НИИ, как правило, – никого не было. Они решали разные вопросы и порознь, и совместно, а потом вместе шли домой, ибо жили недалеко друг от друга. Но, так как дом Виктора, был несколько ближе, то они останавливались у этого дома и еще продолжали беседовать о чем-то «недоговоренном».
Виктор как-то даже напомнил как-то директору притчу о том, как двое женщин, отсидевших в тюрьме десять лет в одной камере, когда вышли на свободу, еще часа три стояли у дверей той тюрьмы и никак не могли наговориться….
Прощаясь, Виктор сказал, что к нему из Казахстана прибыли, проездом, двое племянников, и он хотел бы побыть с ними завтра какое-то время, показать территорию института, город и его окрестности. Директор согласился, только попросил, чтобы он, при передвижениях, ставил в известность его секретаря, мало ли что может понадобиться, в течение дня. На том они расстались.