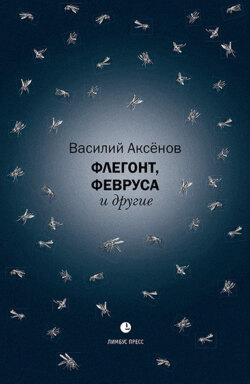Читать книгу Флегонт, Февруса и другие - Василий Иванович Аксёнов - Страница 4
Флегонт, Февруса и другие
(Не рассказ, не повесть, не роман, просто честный отчёт об одной случившейся поездке и рыбалке)
3
ОглавлениеДва раза чуть не до костей промокнув, до нитки точно, – как снег на голову, мы и плащи из рюкзаков не успевали вытащить, так неожиданно, внезапно из-за густого и прогонистого сосняка на берегу, высоком и отвесном, вываливались не такие уж и грозные, безобидные с виду тучки, проворно застилали над нами до этого чистое небо, вдруг заприметив нас среди безлюдного пространства, словно от удивления или испуга, ну, словно дети, поспешно, вспенив плёс, как сливки миксером, разряжались шумным водянистым ливнем, прежде чем скрыться за таким же рослым, как сосняк, ельником, но уже на другом, пологом берегу, – и два раза быстро высохнув на тёплом встречном ветерке и летнем ещё солнце, в полдень подплыли мы к Колдунье.
Много чего, похоже, испытавшая за время своей службы, с мятыми и облупленными бортами, когда-то ярко красная «казанка» с выключенным за несколько метров до берега мотором Yamaha 9.9 прошла по инерции мутным после дождя мелководьем и мягко ткнулась носом в илистый приплёсок.
Выстроились в длинный ряд – то полностью, то наполовину вытянутые из воды на прибрежный песок – лодки.
Деревянные – длинные и короткие, старые и новые, одни сплошь просмолённые, чёрные изнутри и чёрные снаружи, другие только по швам, законопаченным паклей, – а также пластиковые и дюралевые.
Моторы на транцах, вёсла (по-местному греби) в уключинах. Не на цепях, не на замках. Садись, включай мотор, берись за вёсла ли – и отправляйся куда вздумаешь. Не от беспечности и легкомыслия они здесь так оставлены. Нет варнаков, воров, отъявленных бродяг – сами по себе перевелись, или, скорей всего, добрые местные решительные люди помогли им в этом, – а потому сельчане и не берегутся, не опасаются за сохранность своего водного транспорта, крайне необходимого тут при отсутствии дорог.
Лежат опрокинутые (опруженные, как скажут местные жители) обласки, с распорками (здесь их называют спорками) и без распорок, и плоскодонки с жестяным днищем и низкими дощатыми бортами. Валяются мордушки разных размеров, сплетённые из тало́вых прутьев или из алюминиевой проволоки.
Сохнут на шестах неводы и бредни – и ни одной, ну надо же, китайки, и это радует, – сети нитяные, в основном, похоже, самодельные, не магазинные, с берестяными поплавками, по-местному – наплавками. Из одной из них, вцепившись когтями и повиснув на ней, что-то выклёвывает увлечённо сорока. Затрещала громко и с досадой – мало ли что на уме у этих пришлых – и улетела, боязливая, спрятавшись в мелком сосняке неподалёку. Если что важное нашла в сети, значительное – пескаря, ерша, ельца засохшего или лягушку, – вернётся, ушлая, из сосняка за нами проследив. Кто б сомневался. Везде они, сороки, одинаковые, что тут, в Колдунье, что в Ялани.
Не встаём пока, минуту, две ли, медлим. Ноги завяли – посиди-ка столько без движения, не разминаясь, – затекли. Как в самолёте. Кто далеко летал, тому легко представить. Резко поднимешься – из лодки можешь выпасть. Я про других не знаю, не скажу, а с нами было. Выпадали. И не однажды. Имеем опыт. Как смешной, так и не очень. Не из такой, правда, как эта, – из резиновой, двухместной, в той уж и вовсе зыбко, – кувыркались. В ясном уме, надо сказать, не только в замутнённом. Ловкость не та уже – не юноши.
И не спешим поэтому. Да и куда? Уже на месте-то. К гостеприимному застолью? Не опоздаем и туда.
Ещё и вот что.
Друг мой сердечный, Пётр Николаевич, судя по особенной плавности речи, чрезмерно добродушному взгляду, ещё больше помутившейся глаукоме и попыткам несколько раз уже перед самым причаливанием перекричать японскую «Ямаху» и спеть от всего сердца что-нибудь из нашего, русского, казацкого, всё же ухитрился – и когда успел, не уследил я, вроде и находился с ним бок о бок – отхлебнуть водки или самогонки из плоской стеклянной бутылки, спрятанной, как обычно, во внутреннем кармане лётчицкой куртки. Фокусник. Так её спрячет – не заметишь, – не оттопыривает и карман, будто в груди есть ниша специальная. Умеет. Где приобрёл, тоже загадка. Я не про навык – про спиртное. Вроде надолго и не отлучался. Ни в Ялани и ни в Маковском. Дома ещё, скорей всего, запасся, а от меня, когда приехал, скрыл.
Впервые было бы, то – как всегда. Я лишь отметил, но не удивился.
И всякий раз одно и то же. Обыскивать и изымать до более подходящего для распития времени не станешь – и он, Пётр Николаевич, не младенец, и я лишь друг ему, а не жена и не начальник.
Допьёт тайком, когда я занят чем-то, увлечён, бутылку выбросит. В кусты, услышишь, улетела, а то увидишь – плывёт по речке рядом с лодкой, уже пустая, – пробка, во всём он, друг мой, скрупулёзный, плотно завинчена – не тонет.
Воспринимаю как сигнал: чтобы не искупаться – там, где мелко, – чтобы не утопить походный скарб и снасти, если на яме, хуже того – и утонуть, пора причаливать, решаю – пусть далеко ещё до вечера, – и подыскивать на берегу пригодное для костра – чтобы валежник рядом был, дрова – и для ночлега место подходящее. А как иначе? Я же не враг себе и другу. Другу-то ладно, в данный момент ему и море по колено.
В лодке сижу обычно впереди я – так повелось у нас, так присиделось, – а он, Пётр Николаевич, – позади меня, на вёслах. Глаз на спине и на затылке нет – не вижу, что он, когда не машет спиннингом и не гребёт, себе придумывает.
Есть у него и в рюкзаке ещё бутылочки-плоскуши – уверен я, а будущее подтвердит. Хоть каждый раз мы с ним и уговариваемся, и он, Пётр Николаевич, при этом только небом и штурвалом не клянётся: на берегу, за несколько минут до старта, с уже накачанной и спущенной на воду лодкой, по стопке, мол, по две ли за удачу – чтобы была она, капризная, проверено, а то не будет, – после уж, вечером, с устатку, под комариный звон и под горячую уху и литр можно одолеть, можно и больше, как пойдёт, обычно катится, как шарик масленый, а не идёт, – и комаров вскоре замечать перестаёшь, будто их нет, прохладу ночи чувствовать – к утру нормально высыпаешься. Солнце взошло, в глаза нам посмотрело, мы – как стекло. Куда уж лучше. Чаю попил, уху холодную – уже не жидкую, желе – доел, да и рыбачь себе, хоть зарыбачься.
Не получается по уговору.
Ладно. Сегодня нам не удить – спроси меня, скрывать не стану, прямо сейчас за дело взялся бы, но ситуация не та, не я хозяин положения – и не крутиться с окосевшим рулевым на утлом судне по реке, нам не знакомой. А завтра…
Завтра будет завтра.
– Вот, – чуть не кричит он, Пётр Николаевич, – и приземлились.
– Слава богу, – и я чуть не кричу.
Слегка оглохли от поездки.
Молчим. Слушаем – в ушах ещё гудит мотор, – когда утихнет.
Вскоре:
– Слава богу. Это… оно… не по шуге, канешна, не предзимье, – глядя вниз, на днище лодки, бурчит в рыжую бороду, будто не нам, а сам себе, Трофим. Весь путь до этого он был безмолвен, как будто в рот воды набрал. И наберёшь, не удивительно, в такой-то ливень, – то простудились бы… дак чё, оно – канешна.
– Ага. И к бабке не ходи, – соглашается с ним не в меру подобревший Пётр Николаевич. – Пришлось бы табариться, разжигать костёр – чтоб просушиться. А то и ночевать… под ёлкой или пихтой.
– Не привыкать, – говорю я, глядя на друга.
– Да уж, – говорит Пётр Николаевич, отворачиваясь от моего взгляда.
– Лучше под кедром, – говорю я.
– Или под кедром… тоже хорошо, – говорит Пётр Николаевич.
– Только не под ольхой, не под талиной…
– Лутше в избе, под одеялом, – говорит Трофим, будто из книжки по слогам читает. – Сичас-то ладно, не октябирь…
– Не октябрь, – опять соглашается Пётр Николаевич с неразговорчивым, как мы за столь короткое знакомство выяснить успели, – слово из таких, как говорится, щипцами по буквам вытягивать надо, – малоречивым родственником.
– Нынче и жаловаться грех, пока без заморозков, хоть и август, – говорю.
– Скоро осень, за окнами август, – вдохновенно пропел Пётр Николаевич. – За окном потемнели кусты… – В глазах его любовь – и к нам, и к миру. Добрый, добрый.
– Август, – подтвердил Трофим, оглядев медленно сначала голубое небо, а затем отражающий небо широкий плёс и сверкающие радужным бисером после дождя на солнце окрестности. – Июль по-старому… третья декада.
– Да, – сказал Пётр Николаевич. – Точно. По-старому ещё июль.
– А дож-то… это… но, – сказал Трофим, заулыбавшись в бороду. – Маленько вспрыснул. – Книжку как будто дочитал да и закрыл её – наговорился.
– Совсем чуть-чуть, – сказал мой друг.
И я сказал:
– Так, покропил лишь.
Посмеялись.
Каково Трофиму, и не спрашиваем, ему ещё обратно плыть. Путь не ближний. Куда денется, доберётся: Кеть для него – дом родной. С гребью в руке, как говорят здесь, родился, с веслом то есть, на реке возрос, как утка. А нам, беззаботным, весело. У нас впереди несколько дней рыбалки небывалой, с окунями-лаптями, язями с лопату и щуками-крокодилами. Петру Николаевичу, тому и вовсе радостно уж… ну, понятно.
Почему так, какой такой неведомой колдунье обязана эта деревня своим именем, кого ни спрашивали мы, там ещё, в Маковском, никто не мог нам толком объяснить, никто не знает достоверно. Только догадки и предположения, одно сказочнее другого. Не стану их тут приводить, чтобы не множить слов и смыслов.
Младше, чем Маковское, и Ялань. Годков на сорок-пятьдесят. Точная дата основания её не известна. Не так уж и много по историческим-то меркам. Возникла она во второй половине семнадцатого века, уже при Алексее Михайловиче Тишайшем, и основана была не стрельцами и не казаками, а крестьянами-переселенцами из Центральной России.
Набежали сюда – подальше от зоркого царского ока и царёвой тяжёлой руки – в разные времена и раскольники.
И в Ялани есть потомки этих беглецов. Хоть и не с седых времён у нас появившиеся, а только в послеперестроечную пору, и нам, старожилам, они уже не в диковину ни по виду, ни по говору, ни по образу жизни, и название одно у нас за ними закрепилось: он – кержак, она – кержачка. Не те уже они, правда, какими были, когда в Ялани появились, – ассимилируются. Как евреи в Китае. Скоро от нас и отличаться перестанут. Как китайские евреи от китайцев. Может.
По равной части их в Колдунье – старообрядцев и никониан. Никониане те ещё, конечно. Большинство из них – не знают Бога, чёрта не боятся, а вот от чёрной кошки да от бабы с пустыми вёдрами прочь убегают сломя шею. Никониане-то, мол, ладно, и взять с них, как с паршивой овцы, нечего, но и древлеправославные, как сами о себе они печалятся, уже не те – измалодушничались, обезволила их советская власть, выветрила, а поспособствовал ей в этом телевизор. У истинно верующих, твёрдо держащих отцовскую веру, бесовского глаза в доме нет и быть не может – воспрешшено, и хошь умри тут, ляжь костьми. А вот попорченные, по их, истинно верующих, словам, обзавелись уже гремяшшым и бубняшшым гробом, бесстыже пялятся в него, будто на девку голую, и не моргают.
Ясен пень, как говорит Пётр Николаевич.
Ну, говорю я.
Устроилась Колдунья вдоль высокого яра рыжего песка. Дворов около ста. Три улицы. Одна – вдоль Кети почти на километр вытянулась – главная. Две короткие к ней под прямым углом приткнулись. Не все дома в деревне жилые, есть и брошенные когда-то бывшими хозяевами, новых владельцев так и не обретшие – стоят, угрюмые.
Вокруг деревни беломошные бора.
Несколько лет назад заехали сюда зимником со стороны Томской области лесорубы с техникой. Собрались сельчане с топорами да ружьями наперевес, не только мужики, но и женщины и подростки, и объявили лесорубам во всеуслышание: если, мол, не уберётесь, короеды-шелкопряды, подобру-поздорову, вас постреляем и всю вашу технику спалим, а там чё будет с нами, то и будет, хоть на куски нас, дескать, рвите и собакам скармливайте – с места не сойдём, и не надейтесь, и от слова не отступим.
И исполнили.
Посидели лесорубы около месяца в осаде, помёрзли, как поляки в Кремле, продукты у них закончились, и убрались они вместе с техникой и балка́ми восвояси, да так после и не появились – забоялись.
От веку кормятся селяне с бору – грибы, ягода, дичь. За орехом плавают на лодках, на кóнях ездят или ходят пеше в ближние и дальние кедрачи в пойме Кети. Изведи бора вокруг под корень, а заодно и кедрачи – и те-то не щадят уже, а нагло валят, – с голоду помирай, государство шибко-то о нас не озаботится.
Оно и верно. У него, у государства, других забот полон рот.
И тут ясен пень.
И тут – ну, понятно.
А вот в Ялани так не получилось. Криков, угроз и громких лозунгов было достаточно, даже с излишком, но оробели люди, оскудели душами (живут близко к городу, размякли), или отчаянного вожака у них не оказалось. И вековой бор Мордовский, что возле Ялани, снесли под знаком как бы санитарной вырубки. Не сплошь – клочок с кое-где сохранившимся черничником и брусничником оставили.
На том спасибо.
Жизнь в Колдунье била ключом, пока располагался здесь леспромхоз. А ранее, до советской власти, сельчане-колдунчане занимались земледелием, скотоводством, огородничеством, извозом и разными промыслами.
Был здесь и аэродром – поляна ровная, без кочек. Приземлялись вертолёты Ми-1, пассажирский, Ми-4, почтово-пассажирский, и самолёты Ан-2, кукурузники.
Просуществовала эта авиаплощадка до горбачёвской несуразицы, будь она проклята. Осталось деревянное помещение диспетчерской, где когда-то работала Шура, будущая жена Петра Николаевича, здесь они и познакомились, отсюда он её и в Енисейск увёз, взлётная муравчатая полоса, которая самозабвенно ждёт свои вертолёты и самолёты, о чём мечтают, на что надеются и обыватели, да болтается дурак на высоком шесте – полинявший и потрёпанный ветроуказатель. Его уже и птицы не боятся – к нему привыкли, к дураку, – он безобидный. Но вот и он, наверное, мечтает – любимым делом бы скорей заняться, а не трепаться просто на ветру.
Как сказал когда-то о Колдунье огнепальный протопоп Аввакум…
Но что он сказал, никто не помнит.
Зато известно здесь чуть ли не каждому, что о Кети, на которой расположилась деревня и по которой он плыл около месяца, отметил Николай Спафарий Милеску в своём дневнике «Книга, а в ней писано, путешествие царства Сибирского от города Тобольска и до самого рубежа государства Китайского» так: «…река Кеть тоскливая ж для того, что по ней ни елани, ни поля нет, толко (так вот, без знака мягкого. – О. Н.) лес непроходимый, болота и озёра, и потому в Кети вода чёрная, а места сухого мало».
Писал он, Спафарий, ещё и о том, что на одном – похоже, левом – берегу леса мало, а на другом стоят кедровники, тальники, пихтачи, осинники и «иной много леса» и что «на р. Кеть много яров и проток».
И это истинная правда, яров и проток много, а вот леса и на том берегу, и на этом остаётся всё меньше и меньше.
Не премину добавить:
и в Ялани побывал молдавский непоседливый боярин, проезжий. И о ней писал он что-то, что – не вспомню, а искать нет времени, что-то хорошее, конечно.
Рьяно, с высоким градусом воодушевления поблагодарив за оказанную нам помощь и попрощавшись горячо с Трофимом, помогли ему столкнуть с приплёска лодку.
Сидя уже на сядушке, завёл Трофим мотор, взялся за румпель, круто накренив лодку, развернулся и, не оборачиваясь, помчался вверх по реке уже обратным курсом.
Проводив взглядом и с чувством искренней признательности дождавшись, когда «казанка» скрылась за поворотом-кривуном, мы, помогая друг другу, взвалили на спины рюкзаки, повесили на плечи пластиковые рыболовные каны и, взяв в руки спиннинги, стали подниматься в срезанный полого, где дорога, – или в старину ещё лопатами, или уже бульдозером недавно, – жёлто-рыжий яр.
На яру – надо сказать, что это самое высокое здесь место, откуда видно далеко довольно, – немного отдышались, восторженно повзирали на красивую излучину реки, полюбовались ясным и безграничным таёжным пространством, стараясь угадать, где наша родина – Ялань, определили приблизительно, пожелали ей добрых дней и ночей во время нашего отсутствия и направились к дому Суханова Артемона Карповича, старообрядца, старожила.
Ведёт Пётр Николаевич. Ведёт уверенно. Что касается направления, но не походки… шаг вперёд, полшага влево, шаг вперёд, полшага вправо, ну и назад, конечно, отступая… всё понятно: ветра и нет, зато рюкзак тяжёлый непомерно.
Глянул я бегло на Петра Николаевича, он глянул мельком на меня: мол, всё нормально, дорогой товарищ.
Передразнил его я мысленно:
ясен пень, как не нормально…
Смотрим по сторонам. Пётр Николаевич тут бывал и по службе, и как гость, тот явно с меньшим интересом, я здесь впервые – с любопытством.
Старинные крестовики и пятистенники перемежаются с двухквартирными брусовыми и щитовыми домами, построенными в бытность леспромхоза. Жилые чередуются с пустыми. Но и в пустых домах стёкла в окнах не выбиты, двери с петель не сняты, шифер с крыш не сдёрнут – не разграблены. Только тропинки к их воротам заросли травой-бурьяном. Заросли и палисадники. И огороды. Горько. Хоть и привыкли мы к такой картине – всё же сжимает сердце от тоски. Смириться лишь – не мы процессом управляем. Как говорят, будто – глобальный. Может, и так, возможно, и глобальный. Я, кроме России, нигде не бывал, а Петру Николаевичу, над какой заграницей он и пролетал, сверху разглядеть было непросто. Да и стреляли-то по ним – не до осмотров.
Возле жилых домов стоят мотоциклы разных моделей, с колясками и без колясок, мотоблоки, муравьи, трактора – либо китайский, либо «Беларус», где-то китайский вместе с «Беларусом» – и машины легковые, в основном – бэушные японки.
Ну и куда, вопрос, на них тут ездить? По деревне только. Да до речки. От Колдуньи до «соседнего» населённого пункта вряд ли меньше полусотни километров. Напрямую. И глухой тайгой, по бездорожью. Да по бору чистому и ровному – до ближайшей старицы, протоки или озера.
Куда-то ж ездят. Не сидят же в них, в машинах легковых, по праздникам и не любуются на них только в окно.
Но как сюда, тоже вопрос, доставили всю эту технику? Из Енисейска? Или Катайги?.. Как-то доставили – факт налицо. Не с неба же она сюда благополучно им свалилась. Один ответ на это – зимником. Зимником катаются, пожалуй, и до Маковского. И в другую сторону – до Айдары. А от Маковского-то, и тоже зимником, до Енисейска, а уж оттуда – хоть в Москву. На юг, на запад или на восток. На север – тоже только зимником, вдоль Енисея. И по Оби – там тоже можно.
Так обустроились тут люди, как они скажут, обнатурились, так вот живут: Бог высоко, но Он есть, начальство далеко, но его как будто нет. Не унывают: рот до ушей, кого б ни встретил, – ну, то есть нравится им тут. Как будто знают, что в чужих краях не ищут счастья. И знают, может.
Туристов мало, слава богу. Гораздо меньше, чем у нас. Ни одного пока мы не увидели.
Возле нежилых домов – кое-где – оставлены бывшими владельцами теперь уже вросшие в землю бороны, конные сенокосилки или грабли, сани, конные и тракторные, и телеги. И никто их не прихватывает, не сжигает и на металлолом не сдаёт. И не потому, предполагается невольно, что нет поблизости пунктов приёма, а потому, что нравы тут такие и устои: не тобой оставлено, не тобой и возьмётся.
Катится нам навстречу белобрысый мальчишка лет десяти или двенадцати, босой, в чёрных трусах и белой майке навыпуск, способом, который у нас в Ялани называется ездой под рамой, на взрослом старинном синем велосипеде «ЗиФ», каким-то чудом сохранившемся до этого времени, по мокрой от недавно прошедшего дождя песчаной дороге и поёт пронзительно:
«Эх, как бы дожить бы До свадьбы-женитьбы И обнять любимую свою!..»
Увивается за ним рой слепней – тепло стоит, ещё не вымерзли.
Ну, думаю.
Поравнявшись с нами, петь перестал, остановился. Встал ногами на землю, носом шмыгнул, пожелал нам, улыбаясь, доброго здоровья и, оседлав прежним образом велосипед, покатил дальше – туда, откуда следуем мы, – к речке.
Удилище черёмуховое кривое привязано к раме, на руле болтается эмалированный бидончик трёхлитровый – рыбачить собрался. Леска тонкая на удочке, как паутина, – ершей, ельцов да пескарей только ловить. Живцы, наверное, понадобились.
Ни хвоста, ни чешуи тебе, добытчик.
На поленнице, возле крытого коричневым листовым профилем дома, под развесистой берёзой сидит рыжий кот с презрительной, как у африканского узкорота, мордой. Над ним, на нижней ветке берёзы, возле прибитого к стволу скворечника, – ворона. Смотрит ворона на кота надменно сверху вниз. Кот косится на ворону. Мы прошли – на нас внимания они не обратили, на проезжих. Ну и мы о них забыли скоро.
Идём. Нагруженные.
Предвкушаем.
– Вон и дом тестя… кедр в палисаднике, – говорит, перед собой вперёд ткнув подбородком, Пётр Николаевич.
– У, – говорю. – Там, где рябина?
– Там и рябина, рядом с кедриком. Считай, дошли.
– Ну, слава богу.
– Ещё и этот… желомудник.
– Что-что?
– Кусты ещё там… жимолость по-нашему.
– Так и у нас.
– Как?
– Мудушки.
– У нас про ягоду, не про кусты.
– А – желомудник – я не слышал.
– От речки чуть не километр, если не больше… И я, – говорит Пётр Николаевич, – до этого не слышал. От Шуры знаю.
Идём.
И вот что следует отметить.
На подходе к дому тестя, метров за тридцать до него, мотать из стороны в сторону Петра Николаевича, как по команде, перестало, речь из плавной сделалась отрывистой, и в глазах, и даже в том, который глаукомой повреждён, любви ко мне и к миру поубавилось. Автопилот включает, знаю. У Шуры, у жены его, характер мягкий и уживчивый, покладистая, но в конкретных случаях становится неумолимой, бессердечной и бескомпромиссной.
Так вот он, Пётр Николаевич, возвращаясь от нечаянной компании с теми, с кем летал когда-то, или с одноклассниками, приближаясь к своему дому, включает автопилот, и посадка происходит в штатном режиме, с небольшими осложнениями.
Шура, как опытный диспетчер, сразу всё вычислит, конечно, но по голове благополучно приземлившегося сковородкой не побьёт, только объявит строгий выговор с занесением в личное дело и, покормив, уложит спать. Друг мой не буйствует – ни выпивший, ни трезвый, – и ей с ним просто совладать.
Много часов подобного налёту. За столько лет.
И я уверился давно – автопилот работает, аварий не случалось.
Вот и сейчас.