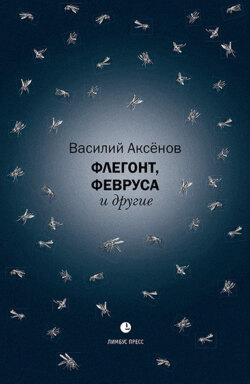Читать книгу Флегонт, Февруса и другие - Василий Иванович Аксёнов - Страница 6
Флегонт, Февруса и другие
(Не рассказ, не повесть, не роман, просто честный отчёт об одной случившейся поездке и рыбалке)
5
ОглавлениеПосетили мы с Петром Николаевичем баню.
Необходимо.
Не у себя дома – в гостях. После в постели чистые ложиться – не на заимке ночевать, не на рыбалке – и самому надо быть чистым. Не дети малые – понятно.
И как сказал нам в напутствие Артемон Карпович: «Следует, следует. После такого-то пути. Для тела надобно. И для души».
«Для тела – ладно. Для души-то?..»
«А то засалится, как воротник, – не отстирашь потом яё и не отмоешь».
Ну, как сказал, так и сказал. Мы согласились.
И как сказала нам Улита Савватеевна: «С устатку нужно и отмякнуть. Не пять минут сидели в лодке, присели-встали – заскорузли».
Оно и правда.
Пошли отмякнуть, заскорузлые.
С большей, чем я, охотой Пётр Николаевич – парильщик злостный. А я уж так, отметиться. Пыль лишь дорожную, как говорится, смыть, с меня и будет.
Банька по-белому, как оказалось, а не по-чёрному, как представлял я, – у староверов-то: коли уж всё как у отцов-столпов, по их завету, число в число и буква в букву, ни шагу в сторону, ни шагу назад, должно бы быть и в этом соответственно. И на тебе. И евон чё.
И тут, получается, двойные стандарты. Куда без них? Значит, и они, истинно верующие, без лукавства не живут. Не получается. Ну, ладно. Бог им судья.
Сие да будет сказано не в суд и не во осуждение, однако ж nota nostra manet, как пишет один старинный комментатор.
Бог им судья. Как и нам, грешным (ангелы, присяжные заседатели, всё о нас – и каждый вздох, и слово каждое – тщательно, в согласие или вопреки правде и разным наговорам бесов-обвинителей, взвесят на своих весах, и приговор нам всем будет объявлен; а подлежит обжалованию этот приговор, не подлежит ли – решит Судья, учтя какую-нибудь мелочь – кошку, собаку ли бездомную ты приютил когда-то или сдержал себя – не пнул их).
И свет, в конце концов, на бане клином не сошёлся, по-белому она или по-чёрному. Суть-то одна: сорок хворей вылечить одновременно и грехи в ней, в бане этой, смыть. Извека.
Вот и у них, у староверов.
Княгиню Ольгу тоже вспомнить… Лучших мужей древлянских разом в бане вылечила.
Так я подумал, направляясь к бане.
Ладная банька. Игрушечка. Как и все остальные постройки в хозяйстве. Образцово. Не из какого-то мендажника, из ровного, средней толщины и с крепкой, кремлёвой, как говорят здесь, не трухлявой (по спилу видно) сердцевиной осинника, не на скорую руку, мастерски срубленной в лапу, под крутой двускатной крышей, а та – под шифером зелёным, с одним оконцем небольшим, стеклопакетом.
Как кость, со временем становится осина. Когда не мочит-то её, под кровлей доброй, потом не сушит её – бесперечь.
Так про осину говорят.
И у меня в Ялани баня из осинника. И подтверждаю я: как кость. Никаким топором её не возьмёшь – любой отскакиват, как от жалеза.
С камнями в топке, мелкими, с кулак, – вокруг пески сплошные, камни где-то раздобыли, – пару поддать, плеснув на них воды, а то и квасу. Кому как нравится. Слышал, и пивом поддают. При мне такого не случалось.
Может, как техника, и камни с неба к ним попадали, кто знает? С Колдуньи станет…
С предбанником просторным, стены которого увешаны под потолком душистыми вениками – берёзовыми, пихтовыми, можжевеловыми и даже конопляными – на выбор.
Мне-то не выбирать. Без надобности. Висят красиво – оценил. Будь я художником, нарисовал бы; в стихах прославил бы, будь я поэтом. Натюрморт с вениками, например, как натюрморт с чесноком:
Стены увешаны связками…
Сходили благополучно. Без приключений.
Не обожглись, не угорели. С полка – в банях чего ведь только с мужиками не случается – на пол, намыленные, не соскальзывали. Хоть и коварной – для собственного потребления сготовленной, а не для алчущих волков никонианских; четыре рамки на ведро, и корпусных, не магазинных, исчё играюсчей, парно́й медовухи, на чём настоял категорически Артемон Карпович, и мы не сильно-то отказывались – выпили до этого, зайдя в стоящий на курьих ножках (от сырости и от мышей) амбар, по пол-литровой кружке: на ноги действует она сильнее, чем на голову. Известно.
«Думать вот не мешат она нисколько, даже, наоборот, тока подначиват, ну а ходить-то – исчё как, – сидя ещё за столом, размышлял Артемон Карпович о настоясчей, а не медовой браге, медовухе (без дрожжей она готовится, в отличие от браги, и без хмеля). – Оне, ходули-то твои, как не твои становятся, как нитяные или ватные; выпил яё, сиди, бяседуй… или приляг, поспи, а зря не шастай, людей и землю не смеши».
«Ну. Ясен пень», – с выводом тестя согласился Пётр Николаевич.
И я кивнул: мол, это так, и ни убавить, дескать, ни прибавить.
И он, Артемон Карпович, сказал – печать всему будто поставил:
«Ну дак а как! А так и есть. Оно не тока что, давно проверено».
И мы опять с ним согласились.
Ну а к тому же:
он, Пётр Николаевич, надев свою лётчицкую куртку, сразу после посещения амбара и перед тем как направиться в баню, пока мы с Артемоном Карповичем продолжали рассуждать о достоинствах только что отведанного напитка, настоясчего и сготовленного не для нас, никониан, а для собственного потребления, сходил зачем-то в огород. И что его в них, в огородах, привлекает? Что-то подсказывает мне…
Но не об этом.
Без Артемона Карповича.
Идти с нами отказался: он ещё утром, дескать, сполоснулся. Мы это слышали уже.
– Может, составите компанию? – всё же в который раз, из вежливости и уважения перед возрастом и степенью родства, спросил тестя вернувшийся из огорода Пётр Николаевич. – А то напарник мой боится веника…
– При чём тут веник? – сказал я, в упор приглядываясь к другу.
– Да ты не слушай, я шучу, – сказал Пётр Николаевич. – Знаю, что париться не любишь, – и мне зачем-то подмигнул здоровым глазом.
– Не успел исчё и замараться, – сказал Артемон Карпович, зубы щербатые в улыбке обнажив. – А так-то чё бы, и канешна. И тесно будет там втроём, не развернуться. Как курицам на шестке – усесться тока и не шавелиться, чтобы друг друга не спяхнуть. А мыться – как не шавелиться?.. Вы уж там как-нибудь одне, вдвоём вам будет послободней.
Хозяин – барин.
Мы пошли.
– Мыло, вехотки, тазики найдёте, – вслед нам сказал Артемон Карпович. – Всё в одном месте – на полкé. Баня – не раермаг, в ей не заблудишься.
Раермаг, как после друг мне объяснил, – это районный магазин универсальный.
– Найдём, – сказал Пётр Николаевич.
– Как не найдёте. На виду… И пемза есть, – сказал Артемон Карпович.
– Найдём и пемзу.
– Пятки-то потереть…
– Потрём и пятки.
– Ступайте. С Богом.
Я не парюсь. Не пристрастен. Сроду. Жар не люблю, не выношу. Поэтому предпочитаю Югу Север. Ни летним днём на улице и ни в любое время года в бане, даже зимой. Оказавшись в зной на солнце, в место тенистое стремлюсь попасть, а в натопленной до звону бане – скорее выскочить в предбанник.
После перенесённого энцефалита жара и вовсе мне заказана.
Вот и на этот раз – помылся быстро, сполоснулся, сижу себе расслабленно в предбаннике, с открытой на улицу дверью, вдыхаю свежесть предвечернюю да слушаю рассеянно, как мошка́, сбившись в клуб, мак толчёт под карнизом – едва и слышно.
Хорошо мне. На сердце тихо. И на душе радостно. О рыбалке предстоящей думаю. Щуку в мечтах трофейную тащу – не сорвалась бы… одну тащу, другую, третью. И от азарта чуть не затрясло. Со мной – обычно.
Так и инфаркт могу заполучить – не шутки.
За другой дверью – дверью в пекло, в геенну ли огненную – Пётр Николаевич то охает, то хрюкает, то всхрапывает жеребцом. Вроде один он там, а будто черти-банники его, расслабленного, скопом ублажают – шумно.
Ну не больной ли, а?..
В каком-то смысле.
Куртка его с потайными карманами висит здесь, в предбаннике. В баню он зашёл голым, как новорождённый. При мне. Вряд ли с собой пронёс. Хотя кто знает…
Дождался спокойно, без мучения жаром и паром, пока Пётр Николаевич вдоволь утешится – сначала берёзовым себя всласть накажет, потом пихтовым и, наконец, можжевеловым или конопляным веником похлещет своё тело, утомившееся за время поездки на танке от Ялани до Маковского и плавания от Маковского до Колдуньи.
Вышел наконец. В пар укутан, как в облако. Быстро облако рассеялось, и оголился Пётр Николаевич. Украшен, вижу, листьями и хвоей – густо налипли. Возле двери на лавочке пристроился. Молчит.
– Прогрел, – спрашиваю, – свои старые кости?
– Прогрел, – говорит, языком еле двигает – уморился.
– И охота так себя насиловать?
Отдышался чуть. И говорит:
– Как не охота?.. Это ж блаженство, не насилие.
– Ну, я не знаю…
– Нечего и знать. Кому насос, – говорит Пётр Николаевич, – кому пылесос, а кому стерляжий хрящик или корочка арбузная.
– У-у, – говорю.
Вроде как бредит – так упарился.
– Да-а, – говорю, – чего-чего, а этого не понимаю.
– Ну, – говорит Пётр Николаевич, – жизнь проживёшь, не всё поймёшь… И оно надо ли – всё понимать? Голова одна, пощадить её надо. Голову испортишь, чем есть будешь?
Оно и вправду.
Посидели в прохладе, помолчали каждый о своём, клюквенно-брусничный морс, оставленный для нас в предбаннике Улитой Савватеевной – чтоб остудиться с пылу-жару… ну и здоровье укреплят – через венчик из зелёной глазурованной крынки попили, остудились и здоровье укрепили.
Сразу и чувствуешь: и заскорузлости как не бывало. Отмякли. Я так, чуть-чуть, но друг мой знатно.
Сходил опять в пекло, смыл Пётр Николаевич, прежде чем одеться, налипшие на его тело листья и хвою.
«Не в постель же с этим мусором…»
Ну да.
Вышли из бани. Стоим среди ограды. На мураве. Роса не пала.
Тепло. Будто в разгаре лето, не к исходу. Вряд ли к утру похолодает. Заморозок не предвидится. По всем приметам. Ну и ладно. Он ни к чему нам, этот заморозок. В лодке от холода стучать зубами. Нам это надо? Нет…
Если ещё до речки завтра доберёмся: подозрительно добреет Пётр Николаевич, мутно слезится его глаукома. Так говорит он о себе:
«В потёмках я, как курица, ничё не вижу».
Начнёт смеркаться лишь, и он за руль уже не сядет, если поедет – только пассажиром.
Тянет лёгкий ветерок, с полудня – шелонник.
Вечереет.
Дружно кузнечики заверещали – пора пришла, не задержались. Несколько звёзд, будто бы горизонт проткнув, пробилось. Видя одна другую – перемигиваются. Луна взошла – недавно вынырнула из-за леса, как будто вытолкнул её кто, выдавил. Висит над речкой. Убывающая. Ещё луна, уже ли месяц. И небо гаснет. На западе, куда течёт неспешно тихая Кеть, оно уже не алое, не золотое, а оранжевое. На востоке – тёмно-сизое. Прямо над нами – изумрудное. Инверсионный след от самолёта – с запада на восток – плавно его сдувает к северу. И расширяется он. На глазах. Разорвёт, растянет скоро его ветром поднебесным на клочки, и те исчезнут с небосклона незаметно.
– Пассажирский, – говорит Пётр Николаевич. – По звуку. «Боинг».
Ему я верю.
– У, – говорю, – в Японию…
– Не факт. Там и Хабаровск, и Владивосток.
– Туда куда-то.
– Сахалин.
– И Магадан.
– И Петропавловск…
Географию – не только мира, но и в первую очередь Родины – знаем. И я, и Пётр Николаевич. Тот особенно, много где, в разных её краях и областях, за свою жизнь побывали. И уроки в школе даром для нас не прошли, учили нас хорошо, и учителя наши были замечательные. И любовь к Родине обязывает. И Родина великая, и любовь к ней большая.
И медовуха не мешат, тока подначиват.
– И Верхоянск.
– И Благовещенск.
На этом остановились – достаточно, решили.
Вороны потянулись на ночёвку. В сосновый лес. Не как в Ялани – в густой ельник. Где-то поодиночке, где-то стаей. Молча. Надсадили глотки за день, наорались. Силы наберут, свет чуть забрезжит, и по новой заскандалят. Ничего не боятся. Никого не стесняются. Без родителей будто выросли, будто никто их не воспитывал.
По всей Колдунье дизельки, споря с кузнечиками, застрекотали. Фонари возле домов зажглись – подступы к воротам освещают, чтобы гость какой, вдруг кто заявится, не тыкался вслепую.
Говорю, оглядывая небосклон:
– Надо мной в лазури ясной
Светит звездочка одна.
Справа – запад тёмно-красный,
Слева – бледная луна.
– С неба звёздочка упала на прямую линию. Меня милый переводит на свою фамилию, – говорит, но не поёт Пётр Николаевич. – Это – Полярная.
– А где Ялань? – спрашиваю. – Если точнее. Где примерно, представляю.
– Там, почти что под Полярной, правее малость, – говорит Пётр Николаевич, указывая в сторону темнеющего на фоне неба скворечника. – Ниже, конечно, – говорит. И говорит: – Они Медведицу Большую называют созвездием Лося или Сохатого.
Кольнуло сердце тонко-тонко: Ялань там, отчий дом.
Глянул на друга. Смотрит тот на Полярную звезду, едва ли ниже. Но и ему, наверное, кольнуло сердце. Потому что и сам он, Пётр Николаевич, не деревянный, и сердце его не нейлоновое.
– Лося, Сохатого? Впервые слышу. Всё у них не так, как у нас, – говорю. – Поперёк.
– Не всё, но многое, – говорит Пётр Николаевич. – Несколько веков врозь жили. Не мы от них, а они от нас прятались. Вот и напрятались. Были родными, а теперь…
– Тебе ж они и до сих пор родные.
– Да уж кого… Ну, только Шура.
– А тесть и тёща?
– Эти тоже…
– А остальные?
– Ну не все же… Теперь не прячутся… Если и не троюродные, то двоюродные… А как? Где теперь спрячешься?.. Ну, может, кто-то где-нибудь и затерялся… Агафью Лыкову вон разыскали, как ни скрывалась. Кержачка тоже. Какого толку, не скажу… Пойдём, – говорит Пётр Николаевич, – под рукомойником сполоснёмся, хотя бы штоком погремим.
– Зачем?! – удивляюсь. – Мы ж после бани…
Подошли к столбу, лиственничной опоре навеса, к которому прибит старинный медный рукомойник.
– Баня у них считается поганым местом. После неё необходимо помыть руки, шею и лицо, – говорит Пётр Николаевич.
– Интересно, – говорю я.
– Не то слово. Но в чужой монастырь, сам знаешь…
– Знаю, знаю… В баню ходить, чтоб опоганиться. Ну, чудеса.
– Ещё какие. Но вот живут – не хуже нашего.
– И слава богу.
– Пусть живут.
Штоком погремели.
Постояли ещё, полюбовались тихим вечером. Воздухом, настоянным на запахах прикетских низменных еланей и безбрежной прикетской тайги, подышали.
Направились в дом.
Горит в горнице лампа.
– С лёгким паром! – говорит Артемон Карпович, резко поднимаясь со скамейки. – С лёгким паром, гости дорогие.
– С лёгким паром! – говорит Улита Савватеевна.
– Ох, спасибо, – мы дуэтом. – Ну, спасибо.
Я молчу. Пётр Николаевич добавляет:
– Как будто заново родился.
– Хотел идти уж, попроведать, – говорит Артемон Карпович. – То заждались мы тут с Улитой…
– Да это он всё, Пётр Николаевич… и до утра сидел бы в бане.
– Ну, до утра – уж чё там делать?.. К утру-то выстынет – и льдом покроетесь. Чуть отдышитесь да за стол… Я ненадолго убегу, – говорит Артемон Карпович. – Дизелёк тока заведу, а то совсем стемнят, потом и шарься там на осчупь – глаза оставишь на колу.
– Ну, до утра не до утра, но с полчаса ещё попарился бы… И натопил же ты, Артемон Карпович, – говорит зять тестю.
– Не я топил, Улита Савватеевна. Я тока дров ей наколол.
– Спасибо вам, Улита Савватеевна, – говорю я.
– Не за чё, – говорит Улита Савватеевна. – Печка топила, а не я.
Сходил Артемон Карпович на улицу, завёл электрогенератор, дизелёк. В доме загорелись лампочки – на кухне, в прихожей и в горнице. Энергосберегающие. Совсем уж от мирского убежать не получается. Ну и понятно.
Улита Савватеевна, поднеся к стеклу ладонь, задула в лампе пламя. Переставила её со стола на комод. Понадобится – далеко не убирает.
Вернулся Артемон Карпович, помыл руки на кухне в закутке, за занавеской, к столу подступил. Повернулся к образам, прочитал громко, пропел будто, молитву, поклонился низко и перекрестился трижды.
Я перекрестился. Пётр Николаевич – нет. Он не привышен.
Давно уже рукой махнул на зятя Артемон Карпович: «Дак чё возьмёшь с яво, еслив бязбожник: летал по небу, Бога не встречал. Ну не чудно́ ли?.. Так яму Бог и показался бы… Чудно, канешна».
И тут сейчас в укор ни слова не сказал он. Не отвечать ему за зятя перед Богом, не гореть в геенне огненной. Сам за себя пусть, дескать, отдувается.
Оно и верно.
Посадили меня и Петра Николаевича с почётом по разные стороны стола, – чтобы локтями не толкаться нам, – друг против друга, на лавки, застеленные самоткаными дорожками.
– Дак это чё… приступим, чё ли, – говорит Артемон Карпович, устроившись во главе стола на хозяйском, с высокой резной спинкой, стуле. – За всё благодарим Господа. Устроил. За приезд, за редкое посесчение. Сподобили. А то однем-то нам тут, старикам, тоскливо. – И так вдруг: – А для началу по мочалу, – сверкнул глазами, засмеялся.
Может, из песенки какой-нибудь эти слова, не знаю. Из строевой, солдатской. Или блатной. Но в армии вроде не служил он, Артемон Карпович. Отлынил. Как после и от фронта. Блатным не был, хоть и отсидел после, как узнал я позже. Песни в солдатском строю не пел. Государство это, говорит, не наше – ну и чё ему служить, мол. Радио не слушает, телевизор не смотрит. Где-то подслушал, сам ли изобрёл.
– Из песни? – интересуюсь.
– Нет, – говорит, – для ладу.
Ну, для ладу так для ладу. А для какого, и не спрашиваю.
Налил Артемон Карпович из глиняного запотевшего кувшина в кружки медовухи. Себе – в свою, нам – в для захожих.
– Уля, а ты-то чё, не будешь, чё ли? Хошь бы отведала да оценила. Это не старая, эту дён пять назад сварил, – повернувшись в сторону жены, спрашивает Артемон Карпович, зная заранее ответ.
– Ой, что ты, нет! – словно всполошившись и отмахнувшись рукой, как от глупости или от наваждения, отвечает Улита Савватеевна. – Хмельной от глотка сразу сделаюсь, язычишко, уд негодный, развяжется, – говорит шутливо, улыбаясь, – ночь им прому́млю, прострочу, а рано утром коровёнку надо будет вычиликать. Как она меня такую встретит!.. На рогах меня из стайки вынесет. Пока протрезвею, ждать не станет, на всю вселенную базанить примется, наскрозь деревню проорёт. И завалюсь ещё под ней, вот смеху будет… Пейте уж сами. Без меня.
Знаю уже: вычиликать – это подоить, мумлить – мямлить, а базанить – кричать. Ну, точно, будто за границей мы находимся, в какой-нибудь родственной нам славяноязычной стране.
– Уговаривать не станем, – говорит Артемон Карпович. – Нам больше достанется.
Сказал, искры глазами из воздуха высек, засмеялся, зубы обнажив.
– Дак ну, давайте.
Тут уж и нам – мне и Петру Николаевичу, русским, – всё понятно, как иногда понятно кое-что из сербского или болгарского.
Чокнулись. Выпили. По полной кружке.
Варёной лосятиной, удобренной жгучей горчицей, закусили.
– Не бобёр? – спрашиваю.
– Ни в коем случае! – говорит Артемон Карпович. – Наскажешь тоже. Этот – с копытами, тот – с лапами, когтями.
– А если с лапами?
– Нельзя.
– А медвежатина?
– И медвежатину нельзя. Заказано. Отцами. Был бы с копытами, тогда бы… Медведь с копытами – смешно.
Улита Савватеевна сидит в сторонке, возле русской печи. Руки на коленях, смотрит на нас. И говорит, когда мы, выпив, замолчали:
– Надо чё будет, вы скажите. Может, запить чё, принесу.
– Спасибо, – говорю, – всего хватает.
– Есть всё, мама, – говорит Пётр Николаевич. – Стол ломится. Не беспокойтесь.
Родители у Петра Николаевича давно умерли, вот он теперь тёщу зовёт мамой и обращается к ней на «вы», ну а тестя, того только по имени и отчеству и обращается к нему на «ты». Рассказывал мне, что при первом знакомстве с тестем обратился к нему во множественном числе. Тот огляделся вокруг себя и спросил: это ты, паря, мол, кому? Пётр Николаевич ответил: вам, мол. Нас тут не много, сказал Артемон Карпович, не двое даже, я тут один. И, дескать, я не милицанер и не какой-нибудь начальник. Так что обращайся, мол, ко мне по-человечески. Ну, дескать, ладно.
В семье Петра Николаевича дети, сам Пётр Николаевич и его три брата и четыре сестры, к родителям обращались только на «вы».
Были в Ялани и ещё такие вежливые семьи. Наша невежливой была.
– Чё понадобится, скажем, – говорит Артемон Карпович. – Сиди уж, за день-то набегалась. Словно челнок – туда-сюда. Оно – хозяйство. – И говорит: – Медведь с копытами – представил. Лутше с копытами бы был, а не с когтями… пусть бы лягался, а не драл, и от копыта легче увернуться, чем от когтей-то…Ну, чё, давайте повторим…
И повторили.
– Как оно там, присловье-то, гласит: первую пить – здраву быть, вторую пить – ум веселить, утроить – ум устроить, четвертую пить – неискусну быть, пятую пить – пьяным быть, шестая – пойдёт мысль иная, седьмую пить – безумну быть, к восьмой приплести – рук не отвести, за девятую приняться – с места не подняться, десять – тут они тебя и взбесят. Господи прости, в чужую клеть пусти, пособи нагрести да и вынести… Давай по третьей, чё сидеть-то… Слабенькая исчё, – говорит Артемон Карпович, – не укрепилась. Квас квасом.
– Знаем мы этот квас, – говорю я.
– Ясень пень, – говорит Пётр Николаевич.
– Ясен так ясен. Полетели, – говорит Артемон Карпович. – И на десятой нас они не взбесят.
И полетели. То есть: утроили – ум устроили.