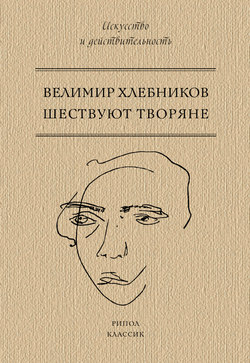Читать книгу Шествуют творяне - Велимир Хлебников - Страница 1
Трубящий будетлянин
ОглавлениеКто – Велимир? Праведник и пророк, лесковского стиля бессребреник и странник, гюль-мулла, священник цветов, как прозвали его в Азии, чистая душа, святостью которого восторгался даже богоборец Маяковский? Или утопист и технократ, фанатик речевых и математических технологий, поэт всемирной революции и трагическая жертва гаданий о чужих судьбах, не давших позаботиться о своей? Или таинник природы, видящий природную жизнь даже в культуре, умеющий общаться со зверями и стихиями, словно в сказке? Или философ языка и поэзии, новый Платон, экстатический мыслитель, но создававший не диалоги людей, а шумное многоголосье вещей и стихий? Или поэт-медиум, мифотворец, ученый стихослагатель мира – одним словом, сбывшаяся мечта символизма и всего высокого модернизма? Или экспериментатор, перенесший нормы научной лаборатории в литературу? Или деловой человек, ПредЗемШара, при всей своей бытовой неустроенности, искавший применения своим ни на что не похожим талантам? Все эти определения верны, но, чтобы нам найти нашу собственную точность отношения к Хлебникову среди этих определений, начнем, после изложения биографической канвы, с общих мест о нем.
Виктор Владимирович Хлебников (1885–1922) родился в калмыцких степях, в семье ученого-орнитолога, значительно пережившего сына, энтузиаста заповедников, всегда искавшего союзников в изучении природы. Хлебниковы – купеческая династия, знатная в Астраханских краях; сам поэт считал, что именно рождение на дне отступившего Каспийского моря, некогда громадного, как мир, и определило его мысли о творчестве как сбережении природных видов и человеческих достижений. Воспитание роднит его с такими эрудитами эпохи, как Павел Флоренский, тоже внимательный к прикаспийскому сплетению корней и связи горных пород и судеб человечества, – Флоренского Хлебников приглашал стать председателем земного шара. Учился Хлебников в Казанском университете, где жил тогда с переезжавшими из города в город родителями: сначала на математическом, потом на естественном факультете, – и, как все почти учившиеся тогда в университетах поэты, успел отсидеть в тюрьме за участие в демонстрации. Начинал он с подражаний Горькому и реалистическим литераторам «Знания», но они, принимавшие самоучек, не приняли ученого. Не завершив университетского курса, Хлебников, верный духу отца, отправился в орнитологические экспедиции, написал статьи о птицах Пермского края и других гористых местностей и даже стал неоплачиваемым сотрудником одного из научных обществ родного университета. Внутренний мир внимательного естествоиспытателя перевернула Русско-японская война: поражение на море и суше обернулось разочарованием в собственной «западной» природе для интеллигенции, прежде считавшей Россию оплотом европеизма: от Мукдена и Цусимы нужно отсчитывать «азиатский» миф культуры русского модерна, мысль о себе как о всплеске живой и яркой Азии. Правда, азиатские искания Хлебникова начались чуть раньше: он, сам штурмовавший многие языки, пытался изучать японский язык, найдя в нем графическое выражение эстетики и поэтики символизма: многозначность самыми скупыми средствами, немногие знаки для немногих, но тем более ценных идей. Состоявшийся как орнитолог и даже открывший несколько новых видов, Хлебников глубоко задумался о законах исторического времени, знание которых позволило бы предотвратить новые войны, и поэзия служила для него проговариванию этих законов. Его пленила идея великого русского символиста Вячеслава Иванова, провозгласившего, что возрождение Античности в России станет всенародным; и Хлебников поначалу писал стихи, предназначенные заселить Россию персонажами античной мифологии. Среди символистов он нашел общий язык с ревнителями славянской мифологии, такими как С. Городецкий; увлечение славянской архаикой пришлось в этих кругах на 1908–1909 годы, когда стало ясно, что парламентские начала в России не развиваются как надо, международный престиж падает и нужно найти новую соборность в самых древних глубинах народного духа. Но в литературу Хлебникова ввел молодой тогда Василий Каменский, редактор журнала «Весна», после бесстрашный авиатор, перформансист и экспериментатор в литературе. Хлебников учился и у Михаила Кузмина законам мелодичных созвучий существительных. Имя Велимир он взял как мнимоюжнославянское, владеющий миром, володарь (кстати, имя Владимир означает исторически не «владеющий миром», а как раз «великий в мире»): Хлебниковым тогда овладела идея близкого Средиземноморью славянского мира как наиболее подлинного Рима, как Рима в своей искренности – даже великого законодателя императора Юстиниана он переименовал в Управду. И разумеется, для Хлебникова после всю жизнь было важно созвучие имени величайшего живописца авангарда: Казимир! – Велимир!
Василий Каменский познакомил Хлебникова с отцами русского «будетлянства»: М. Матюшиным и Д. Бурлюком. Бурлюк, художник и поэт, умел быть также продюсером, вкладывая свои средства в новые течения: известно, как он платил по 50 копеек Маяковскому, чтобы тот писал стихи по новейшей поэтике. Именно в этом кругу создаются первые книги поэта, такие как брошюра «Учитель и ученик» (1912), с дизайном брата Давида Бурлюка Владимира. В диалоге Учителя и Ученика Хлебников попытался наиболее популярно изложить свои идеи о числовых законах истории, в частности точно предсказав революцию 1917 г., а также противопоставил народную песню современной беллетристике, благословляющей смерть, а не жизнь. Народная песня оказывалась идеальной функцией от словесности, утверждающей математическую несомненность жизни. Хлебников излагал свои математико-исторические идеи по-разному, от рапортов министру до лекции первому встречному. Как тонко заметил Осип Мандельштам: «Подобно Блоку, Хлебников мыслил язык как государство», то есть как систему, в которой любое принятое решение запускает громоздкие механизмы управления – только если Блок был заворожен этим зрелищем, то Хлебников всякий раз хотел вмешаться в него, даже не досмотрев до конца.
Некоторые книги Хлебникова выходили как литографии, выполненные Алексеем Кручёных, самым плодовитым из русских «будетлян». Хлебников, пребывая среди поэтов и художников, стал прочно ассоциироваться с созданной Бурлюком группой художников «Бубновый валет», легко сошелся с группой «Ослиный хвост» Гончаровой и Ларионова, принял участие в скандальном сборнике-манифесте «Пощечина общественному вкусу» (1913), заявленном как раз как апология поэтики Хлебникова. Первый типографский поэтический сборник Хлебникова, «Ряв», вышел в самом конце 1913 г. Летом 1914 г. поэт живет в Москве, у своей возлюбленной, актрисы Надежды Николаевой; и как начинается мировая война, он вновь с горящим взором исследует законы истории. Не попавший под первый призыв, он живет между Астраханью, Москвой и Петербургом, а в феврале 1915 г. пытается создать первое правительство Председателей земного шара. 8 апреля 1916 г. новая волна мобилизации накрыла Хлебникова, но повторная медицинская комиссия признала его безумным, после чего он то нес нестроевую службу, то направлялся на новые комиссии. Все лето 1917 г. Хлебников ездил по России, как и почти весь 1918 г., пытаясь создать руководство земным шаром. В Астрахани он создавал литературную жизнь практически в одиночку; летом 1919 г. оказался в Харькове, где проходил курс психиатрического лечения и во время него написал поэму «Разин» из одних палиндромов. В 1921 г. Хлебников был направлен в Персию как лектор революционной армии, сформированной в Баку, и успел даже поработать учителем в семье одного из ханов. Вернулся он в Баку осенью, а после жил в Пятигорске, где испытал великий творческий подъем – его «Шествие осеней Пятигорска», безусловно, великая поэма, полная ужаса и красоты, величия и размышлений, которых хватит на века. После поэт переехал в Москву, где получил при содействии Кручёных и Маяковского временную прописку и даже опубликовал в «Известиях» стихотворение «Эй, молодчики-купчики», понятое редакцией как бичевание нэпманов. Но главное его сочинение по исторической математике, «Доски судьбы», в котором Хлебников отождествил себя с революционерами веры, поэзии и науки, Эхнатоном, Омаром Хайямом и Лобачевским, не интересовало издателей; с большим трудом нашла путь в печать сверхповесть «Зангези», в которой те же идеи провозглашает городу и миру пророк Зангези. Здоровье поэта было расстроено лихорадкой; выехав на дачу художника Петра Митурича, иллюстратора «Зангези», под Новгород, он слег и скончался за несколько мучительных недель. На могиле Велимира Хлебникова лежит каменная баба из степей – сама мифология, овеянная ветрами истории, склонилась под ветром посмертного вдохновения от произведений поэта. Хлебников, как и Моцарт, написал реквием по самому себе, который назван «Одинокий лицедей»:
И пока над Царским Селом
Лилось пенье и слезы Ахматовой,
Я, моток волшебницы разматывая,
Как сонный труп, влачился по пустыне,
Где умирала невозможность,
Усталый лицедей,
Шагая напролом.
А между тем курчавое чело
Подземного быка в пещерах темных
Кроваво чавкало и кушало людей
В дыму угроз нескромных.
И волей месяца окутан,
Как в сонный плащ вечерний странник,
Во сне над пропастями прыгал
И шел с утеса на утес.
Слепой, я шел, пока
Меня свободы ветер двигал
И бил косым дождем.
И бычью голову я снял с могучих мяс и кости,
И у стены поставил.
Как воин истины, я ею потрясал над миром:
Смотрите, вот она!
Вот то курчавое чело, которому пылали
раньше толпы!
И с ужасом
Я понял, что я никем не видим:
Что нужно сеять очи,
Что должен сеятель очей идти!
1921; 1922
Царское Село для Хлебникова, любившего понимать слова буквально, – это место, где можно не только видеть царственность, но и жить по-царски, где и тоска, и мировая скорбь Анны Ахматовой разливаются с величественной щедростью. Но сам поэт себя сравнивает с Тесеем в лабиринте – образ на щите европейского сюрреализма, достаточно вспомнить всех минотавров Пикассо и Макса Эрнста. Но Тесей Хлебникова притворен, умеет не только надевать маску, но и быть маской, и потому только он может победить Минотавра как пустую форму, показав, что зло, перестав нас гипнотизировать, становится видимым в своей неприглядности. Но сам поэт, спустившийся в ад Минотавра, уже не видим для людей. «Сеятель очей», конечно, сразу напомнит Некрасова с его сеятелем на ниве народной; только сеятель Хлебникова не ожидает сердечной благодарности народа, но просто делает то, что должно, идет потому, что нельзя не идти. Такой сеятель – подвижник, а не просветитель. И с этого реквиема себе вместе перейдем к критике общих мест о Хлебникове.
Самое известное общее место выражается словом «заумь», которое восходит к знаменитому опыту Хлебникова по созданию новых «умов» – каждый новый «ум» создавался очередной приставкой, действительной или чаще придуманной, и среди них стал возможен наш «заум», ум большого размаха. Заумью часто по ошибке называют усложненный язык, не то невнятно темный, не то до обиды многосмысленный. На самом деле Хлебников называл заумью ясный и практичный язык, способный управлять умом так, как ум управляет руками, язык искренний и дельный. Заумный тогда означает не «недоступный уму», а стоящий за умом, как стоит актер за маской или как электричество стоит за свечением лампы.
Заумный язык Хлебников собирался построить на основе русского алфавита, понимая звучание и внешний облик русских букв как ключи к структурирующим мир отношениям. Выведение мира из написанных и звучащих букв – практика, зародившаяся в поздней Античности, когда буквы имели числовые значения и при этом обслуживали всю империю и поэтому могли быть поняты созерцателями как учет всего мироздания. Именно так были построены греческая гематрия, еврейская средневековая каббала, логическая машина пламенного философа Раймонда Луллия на средневековой Майорке (Луллия много читали русские старообрядцы-поморы, а в Европе модерна ему приписывалось изобретение карт Таро) или всемирная криптография Атаназиуса Кирхера и Г.-В. Лейбница, нумерология толстовского Пьера Безухова и безвестных для нас русских мудрецов. Выведением мироздания и поэзии из звучащих букв занимались и современники Хлебникова: достаточно назвать такие трактаты поэтов, как «Глоссолалия» Андрея Белого и «Ключи Марии» Сергея Есенина. Но Хлебников имеет следующие особенности:
1. Буквы у него не магические инструменты мироздания, срабатывающие раз и навсегда, они сами бесконечно зависимы от того, какую они примут форму, как они зазвучат.
2. Буквы русского алфавита для него – образы не действий, а переживаний, не просто русской души, а русского осознания души всего мира.
3. Буквы могут выступать не только как элементы мира, но и как функции переменных, определяющие различные статусы одной и той же вещи, – Хлебников был не случайно единственным математиком среди русских поэтов первой трети XX века.
Чтобы понять, как работает изобретенный Хлебниковым принцип, процитируем сначала стихотворение современного поэта Станислава Красовицкого:
Этот цветок,
что завял и свалился,
золотом вечным
горит в песнопеньи.
Это чветок
што залял и свалился
голосом Бельмы
и золотом песни.
Зволосом весчным
и горосом резче.
1961
Это стихотворение – глосса, развитие в стихах готовой цитаты на уже не вполне ясном культурном языке. Цитата из Фета говорит о том, что бессмертие искусства совершается в бессмертии воспетых им вещах, которые становятся фантомами нашего воображения, но именно поэтому бессмертие, прежде бывшее лишь нашим представлением, становится общей функцией для фантомов и вещей. Красовицкий, дважды переложив монументальный афоризм Фета звукоподражательным языком, сначала раскрыл его содержание, как навязчивого пения, не дающего всем вещам окончательно упасть в небытие; а потом и его форму, как звонкого резкого высказывания, пронзительного ровно до тех пор, пока оно парадоксально. Если обычный язык может только комментировать содержание или акцентировать форму, то звуковой язык представляет нам сразу все границы содержательного действия формы.
А вот одно из ранних стихотворений Хлебникова:
Кому сказатеньки,
Как важно жила барынька?
Нет, не важная барыня,
А, так сказать, лягушечка:
Толста, низка и в сарафане,
И дружбу вела большевитую
С сосновыми князьями.
И зеркальные топила
Обозначили следы,
Где она весной ступила,
Дева ветренной воды.
<1908–1909>
Великий поэт Европы Пауль Целан гениально перевел первую колыбельную строку Wem doch zu erzdhlchen – кому же рассказатеньки, где найти читателя. Героиня стихотворения, сказочная Царевна-лягушка, сама себе создает свой дом, свое болото, как поэзия создает себе читателя, внимательного свидетеля стиха. Но за созданием содержания сказки подручными усилиями царственной героини следует и создание формы сказки как привлечения времени на свою сторону. Царевна-лягушка в конце и весну привлекает – хотя вроде давно уже сказочке конец, она счастливо дружит с сосновыми князьями; но все равно при всем величии своих житейских дел ступает робко – и без этой робости формы, благоговения и стыдливости бессмысленно любое поэтическое содержание. Вот это и есть заумный язык – предвосхищение не самого осмысленного, но самого тонкого и робкого.
Второе общее место – Хлебников как прорицатель исторических дат, гадатель по «доскам судьбы», пытавшийся алгебраически рассчитать законы всемирной истории, а будущее увидеть как математическую функцию схождения всех данных, внезапную утопию в ходе сошедшихся событий. Принцип хлебниковской исторической математики прост: мы берем большой год, не 365 дней, а 365 лет, и смотрим, насколько он более властен над людьми и царствами, чем календарный год. Но важно здесь то, что властен именно большой год, а не просто какие-то предопределенные закономерности, то есть властвует над событиями только полнота их проживания, полнота прочувствованного бытия.
Для Хлебникова было важно и число 317, тоже поставленное основой вычислений больших исторических судеб. 317 для него это «гамма» мира, это исходное звучание слов, дел и событий. Вероятно, это действительно гамма 3-1-7, ми-до-си, в чем читается миссия и мессия, «до» и после событий. Должно было быть 317 председателей земного шара, куда должны были входить «математики», «поэты», «американцы» и другие. Пророчество о председателях земного шара исполнилось: Хлебников бы узнал их в Илоне Маске или Насиме Талебе: конечно, современные асы технологий не председательствуют, а скорее бегают, организуя проекты, но Хлебников ради праздника допустил бы и такую поэтическую вольность.
Третье общее место – Хлебников как создатель эстетики незавершенности, не дописывавший и не договаривавший свои произведения, начинавший с любого эпизода и заканчивавший на «и так далее», легко переходивший от цитат, литературных аллюзий и коробов эрудиции к эстетическому производству и обратно к собираемому материалу и случайным замечаниям. На самом деле Хлебников создал вполне продуманные поэтические формы – прежде всего, сверхповесть как трактат в лицах и малую поэму, построенную не по принципу цикла, а на внезапной смене эпизодов. Такие малые поэмы до Хлебникова создавал чтимый им Михаил Кузмин; только если Кузмин следовал музыкальным правилам сюиты, со сменой речевых декораций, то Хлебников экспериментировал с мифом: что произойдет с мифом, если он начнет жить в других пространствах, других мирах, станет номадом, пойдет странствовать вместе с переселяющимися народами, – а смена декораций происходит разве что для этнографа, который тоже одна из ипостасей поэта, но не для мифа.
Мы слишком много думаем о Хлебникове как о страннике, но, к сожалению, меньше думаем о нем как об идеальном управляющем поэтического хозяйства. Наша современница Ольга Седакова в стихотворении «Бабочка или две их: памяти Хлебникова» точнее всех разглядела в центре поэзии Хлебникова возвращение блудного сына: «Потому что бабочка летает на страну далече, / Потому что милует отец». Отец передал раскаявшемуся блудному сыну перстень, печать всего имущества, мы бы сказали – коды управления имуществом. Хлебников получил эти историко-математические коды, чтобы после того, как поэзия классики и модерна растратила образы и метафоры, собраться с мыслями и собрать логику высказываний, управляя достойно как отец.
А об общем месте о Хлебникове как о политическом мыслителе не будем и говорить: все же Хлебников созерцал судьбы всех народов и царств и потому был дальше всего от душевного отождествления с каким-то из них. Армии он боялся как обезличивающего механизма, но патриотом России был: Россия для него, как в поэме «Поэт», место, где странствуют Богородица и Русалка, изгнанные отовсюду, но здесь находящие настоящее милосердие. Конечно, у Хлебникова есть выпады против духа германства в 1914 году, но заметим, что для него это дух не столько враждебный, сколько суетливый, а так высоко подняться над всемирным конфликтом в те времена дорогого стоило.
Вообще, вокруг Хлебникова до сих пор много мифов, скажем, будто Вячеслав Иванов сразу оценил его мифотворчество, а Борис Пастернак остался к Хлебникову совершенно равнодушен. Конечно, Вячеслав Иванов восторгался Хлебниковым на Башне, потому что напряженно искал еще одного мифотворца, но потом, по воспоминаниям, говорил о нем с восторгом, удивлением и страхом как о сказочном чудовище. Казалось бы, что университетскому Пастернаку, въедливому и дисциплинированному, до мечтательного самоучки Хлебникова, впрочем, процитировавшего и его в стихах? Но так только на первый взгляд. Как по-хлебниковски звучат письма Пастернака из Всеволодо-Вильвы, с мелового дна бывшего Мирового океана, когда гребень уральского леса подобен Шварцвальду, само пребывание на месте есть странничество, а миры поэзии и музыки оказываются равно вселенскими и труд Урала становится вовсе не владыкой мира, а почвой и судьбой. Хлебников думал о вулканном реве Урала, о новых хребтах бытия, о подхватывающем наш личный порыв сбытии истории, но и Пастернак был поэтом пережитого косноязычия горного дела, которое выносит в историю быстрее любых книг.
Хлебников нашел продолжателей в обожавшем его Хармсе и Заболоцком с его «беззвучными насекомыми», позднем Мандельштаме, Арсении Тарковском с китайско-исламской бабочкой и Леониде Аронзоне (гениальное «Всё – лицо. Лицо – лицо…»), неоавангардистах, от Елизаветы Мнацакановой до Ры Никоновой-Таршис, верлибристах, как почти не замеченный при жизни Василий Филиппов, продолжателях хлебниковской комбинаторики, как Константин Кедров-Челищев, московских концептуалистах и многих других поэтах. Внимание к жизни мельчайших созданий и мысль о единстве космической гармонии и космической дисгармонии, эксперименты со звукосмыслами и масштабирование застающего нас будущего, лирический гротеск и эпический психологизм – всё это одинаково наследие Хлебникова. Даже Бродский, личность которого совсем не похожа на личность Хлебникова, отдал дань жанру малой поэмы и пристальным наблюдениям за природой и историей как центру поэтического высказывания.
Велимир Хлебников научил русскую поэзию не следить за готовыми буквами, звуками и образами, не очищать мысли и чувства или увиденное, но смотреть, что остается на руках после того, как буквы уже выдали нам свой смысл, а звуки отзвучали. Как писал Виктор Кривулин весной 1973 года:
И в сумерках, блаженно полуслеп,
со шрифтом неразборчивым сливаясь,
я уходил за буквами вослед,
со мною только звуки оставались.
Лучше всех сказал о наследии Велимира Хлебникова Андрей Вознесенский: «Мы – нация Блока, Хлебникова». Блок – это песенная вселенная, все напевы русского XX века, от песни Рождества до цыганской пляски и триумфа. А Хлебников тогда – логическая вселенная, «время – мера мира», измерение логикой событий логики страсти.
Казалось бы, от нас далеко время высокого модерна, с патетической миссией поэта или интеллектуала, честью каждого творческого человека, независимостью личных повелений странам и народам. Высокий модерн был временем великих характеров, от босяков Горького до пророков нового религиозного сознания, от университетских «мандаринов» до поэтов солнечной вселенной. Продолжения высокого модерна в позднейших поколениях – рок-культура, в которой «Битлз» популярнее Библии, и отчасти современная аниме-культура Япония, где герои по-прежнему верны своей чести. Там действительно «слово управляет мозгом», манипулирует в буквальном смысле слова, двигает руками, как при взмахе меча. Но пока мысль продолжает управлять словом, для нас жив Хлебников.
Каждый текст поэта в этом собрании снабжен комментирующей статьей до и после текста. Сердечно благодарю академика Вяч. Вс. Иванова, великого хлебниковеда, за возможность многие годы заниматься вопросами поэтики в МГУ. Комментаторский труд посвящаю дорогим уральским коллегам Зое Антипиной, Анне Арустамовой и Анастасии Фирсовой, открывшим мне Урал Каменского, Пастернака и Хлебникова.
Александр Марков,
профессор РГГУ и ВлГУ.
12 июля 2017 г.