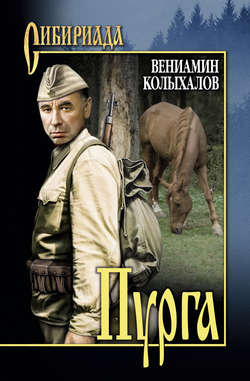Читать книгу Пурга - Вениамин Колыхалов - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Книга I. Пурга
8
ОглавлениеДеревня Большие Броды тихо вознеслась над сплавной рекой: в яроводье она бесшабашно транжирила буйную силушку. Обрывистый берег Васюгана – в стрижиных проточинах, в неглубоких и глубоких оврагах, прорезанных водой-талицей. После многоснежных зим напористые ручьи просекали по яру конусные вымоины: срезы покрывались низкостелющимся подъярником – мать-и-мачехой, рано оживающей на солнцепёчных местах. Не успеет весна обесснежить землю – по всей панораме откоса дружно и торопливо распускаются желтые с плотными тычинками цветы. К ночи они боязливо сморщиваются, сохраняя тепло и жизнь. Поймав золотыми окулярчиками первые утренние лучи, оживают в покорном, трепетном порыве. Их дружный массовый расплод превращал яр в самотканое полотно.
За нешироким Васюганом по низинному берегу тянулся густой подростовый осинник вперемежку с кривоствольным черемушником и раскидистым боярышником. Крепкие и острые шипы боярки иногда использовали вместо патефонных иголок.
В июне зацветала обильная в этих местах черемуха и даже ветер пропитывался сладковатым запахом.
На луговом, затопляемом в большую воду пространстве, разбрелись многочисленные озерушки и петлястые ручьи. Тянулись коварно-топкие болота с окнами неизмеренных трясин, покрытых пленчатой ржавью. Оттуда с глухим бульканьем вырывались изредка большие пузыри. В этих синеватых циклопьих глазах отражалось на миг-другой нарымское небо, его пугающая высь. Пузыри лопались, осыпая брызгами прыгучих водомерок.
Топь пространных болот незаметно переходила в невысокий кочкарник. Среди него начинали проглядываться тропинки покосников, охотников и рыбаков.
Лугов, болот и тайги было вокруг Больших Бродов столько же, сколько неба над деревней. С весны до поздней осени слышался здесь неугомонный переклик уток, кукушек, гусей, косачей на токовищах, малых птах, куликов-плакальщиков, семенящих на ходульных ножках по илистым береговым отлогостям. На коньки крыш, скворечники, на близко стоящие возле деревни кедры садились глухари, взирая на бродящих коров, лежащих возле заплотов расчумазых свиней, на редких прохожих. Бессрочный призыв колхозной страды делал деревню летом почти пустой. Покосники жили в балаганах за Васюганом, заранее переправив туда на вместительных четырех-шестигребных неводниках сенокосилки, конные грабли, продукты, лошадей. В широкодонных, толстобортных лодках они стояли смирно, предвкушая сытую жизнь на обильных травах.
Таких поселений, как Большие Броды, было много на тайговой изворотливой реке. В семи лесных – на глазок – верстах стояло несколько изб староверов. Тайга в той сторонушке была такой же дремучей, как матерые кудлатые бороды мужиков, занимающихся сбором орехов, грибов, ягоды, выжигающих древесный уголь для нарымских кузниц. Не жили они без охоты и рыбалки. По избам лесных отшельников хранились иконы древнего письма, в богатых чеканных окладах, сияющих нетускнеющей позолотой. Литые массивные распятья, начищенные бронзовые подсвечники, мерцающие лампадки с кружевными сетчато-ажурными металлическими наголовниками, полупудовые церковные книги с золотым тиснением на толстой коричневой коже, с рисунчатыми, мягко защелкивающимися застежками. Личная, боящаяся мирских рук и губ посуда, утварь – все было пропитано там духом древнего обрядничества, прилипчивой веры христолюбивых старозаконников.
Приверженцы невозвратимой старины жили обособленным мирком, были молчаливо угрюмы и недоверчивы к властям. Тяжелые тайны думы делали их буреломные лица замкнутыми и отчужденными. На берегу малоподвижной Пельсы – дальней родственницы Васюгана – колхозники построили барак, баню по-черному: копоть одолела не только ее нутро. Махристая сажа покрывала снаружи мох между бревен, верхние венцы и узкую на скрипучих петлях дверь. В предбаннике валялись обтрепанные веники, клочки моха, пихтовые лапки – на них любили стоять разгоряченные паром кубатурники – так назвали колхозников-лесорубов, прореживающих второй урман.
Сначала староверы жили в деревне, воздвигнутой на яру, и она будто бы называлась Большие Бороды. Неизвестно кто умыкнул из слова букву, проредил его. В двадцатые годы бороды подались выше по Пельсе. Деревня незаметно превратилась в Большие Броды, хотя ни люди, ни скот не могли перебрести реку даже в межень.
Рубленная «в лапу» изба Дементия Басалаева стояла на самом конце левого порядка. Дальше начиналось сухое болото с приземистыми сосенками, мелколиственными березами и частым кустарником, покрытом, как вуалью, паучьими тенетами. Стволики сосен были уродливо-кривы, походили на охвоенные коленчатые валы. Ухоженное подворье под сплошной непромокаемой крышей, длинные поленницы дров с козырьками тесовых навесов, стоящие по углам заготовки для вил, граблей, лопат, высокое крашеное крыльцо – все говорило в пользу радивого хозяина. На гвоздях, деревянных штырях, зубьях от бороны висели уздечки, вожжи, обручи, связки толстых и тонких веревок: копновозных, бастричных, сетевых. Чернели мотки заготовленной дратвы. Полотна лучковых пил, стамески, ножовки, разнокалиберные центровки поблескивали от смазки. Все здесь было на своем, отведенном заранее месте. Если бы исчезла вдруг с гвоздя массивная киянка с дырочкой на ручке, то пустующий гвоздь глядел бы на вас с немым непрощающим укором. Вошедший сюда хозяин мог бы сразу узреть: чего-то недостает на полотне желтеющей сосновой стены, исчез какой-то мазок с завершенной картины, рожденной хозяйским трудом и рвением.
К тридцать седьмому году поутихли разговоры о колхозах. Артельные хозяйства стали такой же очевидностью, как всполошенный золотой звон солнца, разливающийся широко над сонными урманами. Колхозы будили землю новыми большими раскорчевками.
Басалаев попробовал пойти в откол от колхозной жизни – не вышло. Много надежд возлагал на инспекторский портфель, да недолго покормили бумаги. Стоило ли в четырнадцатом году умножать на грифельной доске трехзначные цифры, учиться письму и закону божьему, чтобы теперь конюшить, слушать председательские окрики?!
За обучение тятя платил учителю два пуда муки. Понятливый Демешка быстро овладел тайной чисел. Не просто вызубрил таблицу умножения. Он понимал силу цифрового наслоения и слития. Под кусочком мела разбухали столбцы. Эти, как на опаре поднимавшиеся величины пудов муки, головок сахара, мешков овса, литров молока приводили одиннадцатилетнего парнишонка в возбужденно-радостное состояние. Выводил в тетрадке задачу: «У купца в амбаре было сто семьдесят восемь мешков пшеницы…» Воображение рисовало вместительный купеческий амбар, горы зерна, из которого богач получит на мельнице баснословное количество пудов белой, измельченной в пыль муки. Его тятька весь исскрипелся в упреках, что тратит за учебу сына два пуда муки, а тут в задачнике их тысячи. И не только муки – листового железа, рыбы, говядины, соли, чая и пряников. Тут и всевозможные ткани, кафтаны, сапоги, телеги, бутыли вина. И виделась мальчику своя лавка, где всего вдоволь. Приходят нарядные дамы, источающие запах дорогих духов, приводят красивых дочек, пухлощеких сынков… товар расходится хорошо… торг идет бойкий… у лавочника куча ассигнаций, свой счет в банке…
«Демешка, ворон ловишь?!» – строжится учитель. Пустить в ход линейку не решается – ученик способный, отец не из бедных мужиков.
Из четырех «на выучке» мальчишек, трех нанятый учитель причисляет в разряд оболтусов. Сидят, выпучив глаза, словно и ими хотят услышать. На лицах написаны муки тугодумства и бестолковости.
На перемене Демешка незаметно от товарищей виляющей собачьей походкой приближается к молодому, узкобородому человеку, шепчет подобострастно: «Господин учитель, Гераська вам фигу показывал, когда вы на доске задачку писали». Учителю, не терпящему фискальства, хочется прочесть ябеднику нравоучение, но он ограничивается хмыканьем и коротким: «Ладно… ступай…» На следующем уроке по Гераськиному лбу и затылку дважды прошлась увесистая указка учителя.
Не вышел купец из Басалаева. Не получился инспектор по налогам, даже учетчик. Нет своей лавки с товарами, но кладовая, два сундука, комод не пусты.
Свой двор – крепость. Тут каждая щепка, отлетевшая от бревна – твоя. Хочешь сожги, хочешь выброси. Размышлял Басалаев: «Колхозы – недолгие жильцы на белом свете… покряхтит партия с ними да отступится, как от нэпа… сколько неразберихи натворили, сколько гнезд крестьянских порушили…»
В Больших Бродах комсомольская ячейка состояла из шести человек. Басалаев воспрепятствовал своим сыновьям вступать в нее, строго отчитав Никиту и Олега: «Не были в пионерах и в эту дьявольщину не пущу… лясы точить на собраниях – время сжигать попусту».
Мужикам говорил другое: «Гоню своих щенков в комсомол – упрямятся. Несговорчивые черти растут». За два дня до праздников вывешивал над крепкими воротами добрый лоскут кумача, втолковывал прохожим колхозникам: «Советская власть нам всласть. Без нее до сих пор бы нас богач по сопаткам бил».
На людях не высказывал затаенных мыслей. Был осторожен в выборе собеседника и тем для разговора. Трудно было понять и раскусить его двоедушие. Проявляя недоверие к колхозу, работая спустя рукава, конюх не забывал подвезти себе в первую очередь дров, вспахать, проборонить огород, взять «взаимообразно» тележную ось, чересседельник. Председатель колхоза однажды устыдил:
– Ты, Дементий, пользуешься колхозным не взаимообразно – взаимобезобразно. После пахоты огорода плуг почему не вернул?
– Так он у меня смазанный стоит. У тебя бы ржавел возле кузницы.
«У тебя», «у меня» обидели Василия Сергеевича.
– Знаешь, Басалаев, одни земные соки питают колхозные поля и твой огород. Ты нашему колхозному строю напересечку бежишь. Не пытайся – сомнем. Коней как содержишь?! У нас пока нет трактора, но будет. Все лошадиные силы – в нашей конюшне. Береги их. У тебя и у меня одно хозяйство. Кроме моего и твоего брюха есть еще страна, ждущая от нас зерно и мясо, молоко и овощи.
Слушает Дементий председателя вполуха. В глазах вспыхивает злорадство: «Пока трактор дождешься – дважды сгорбатишься. На трудодни что даешь? Весь хлебец трудоденный тараканья упряжка вывезет…»
Вспоминает конюх гулянку, на которой кладовщик Яков Запрудин под парами самогонки пел с хрипловатым подвывом:
Шла корова из колхоза,
Слезы капали на нос.
– Отрубите хвост по горло —
Не пойду теперь в колхоз.
«Побегут, побегут из колхозов не только коровы. Очухаются мужики, поймут, какие хомуты натянули на их глупые головы, не возрадуются… Дед Платон ватные штаны называет килогрейкой. Килу на личной пашне нажил, при колхозе сыну в наследство передаст… Надо бы о запрудинской частушке сказать кому следует…»
В сороковом году кладовщика Якова Запрудина по доносу Дементия обвинили в умышленном поджоге скирды снопов. Припомнили антиколхозные частушки. Исчез он быстро, как брошенный камень в реку. Захара – сына врага народа – исключили из комсомола. Терзалась семья Запрудиных неизвестностью о Якове. Его сына мучило страшное положение исключенного из комсомола. Разве мог тятя поджечь скирду хлеба? Он, сметающий со стола каждую крошку, знал истинную цену колоску, взращенному на раскорчеванной земле. Не было за Большими Бродами ни одной росчисти, не окропленной потом отца. Он хорошо умел расправляться на огнище с цепкими пнями. Березовая вага рвала кожу на ладонях, трещала рубаха, пропитанная солью и дымом. Мужики, завидуя игривой силе, говорили: «На тебе, Яша, и кольчуга от натуги лопнет…»
В колхоз входил без печали на сердце: артельно да брательно что не жить. Тайги кругом вволю. Под тайгой-то землица, не океан кипучий. Где топор да пила, где огонь подсобит. Вырывали сотки из лесной глуши. Слыханное ли дело – спалить хлеб, призвать в соучастники злодейства варварскую силу огня?! Есть, конечно, вина Запрудина – не усторожил свезенные снопы. Послал в охранение школьников, те убежали на берег Васюгана. Разожгли костер, пекли картошку. Председатель колхоза защищал кладовщика, называл его активистом, ярым врагом большебродских богатеев, на которых и ему, Якову Запрудину, пришлось гнуть спину, исполнять изнурительную тяготу батрачной работы по найму. Богатею чужой силы не жаль. У работников пусть хоть пупы развязываются, костолом по телу идет – ему наплевать. Падал от усталости в прокосах Яша. Еле таскал ноги по борозде. Бывало, обопрется всем телом на широкие ручки плуга, повиснет на них – и сытая кулацкая лошадь тащит измотанного трудом работника. За такие невинные проделки в зубы получал от хозяина и ужим при расчете. Вот те бы, пропитанные своим потом суслоны, Яков Запрудин в отместку мог спалить. Слишком жирной и ненавистной была рожа его работодателя. Кормил солониной. Рассчитывал – мякины подсыпал в зерно.
Говорят: хлеб на корню – не хлеб. Нет, неверно. Он становится хлебом с нетерпеливых зерен, просыпавшихся золотым дождем в волглую землю. С робкой зелени всходов. С налива колосьев. Он всегда хлеб. Даже если не попал в мешках на склад, кладовщик вместе с председателем, агрономом, колхозниками несет за него ответственность в поле, на току, независимо как расфасован он после жнитва – поснопно, посуслонно или поскирдно.
Захар, выкладывая комсомольский билет, не склонял виновато голову. Обвинение отца было недоказуемо. Сын верил в его правоту.
Их было в комсомоле шестеро. Ровно столько, сколько имело каждое звенышко медового сота. Уход Захара размыкал цепь в этом важном звене. Парня выставили на позор. Отдавая билет, Запрудин-младший дрожащим голосом сказал:
– Я сейчас чувствую себя бойцом, у которого отнимают винтовку.
Первой мыслью было пойти и вверить молодую жизнь Васюгану. Он промолчит, не выдаст тайну… Мать ли спросит реку, Варя ли – не раскроет уста. Наученные водой берега тоже будут немы…
Долго ходил по краю обрыва. Мысли плавали в туманном заволочье… Откуда-то взялся прыгучий воробышек, уселся поодаль и принялся быстро-быстро чистить клювик. Перья торчали на воробье в разные стороны. Видно, недавно дрался из-за зернышка или хлебной крошки. Вид у взъерошенной птички был бойцовский. Захар подумал: она не выпустила победы из лапок. Геройский вид терпеливой сибирской птахи, для которой любая застреха – дворец, заставил изменить течение взмученных бедами мыслей. Семья осталась без главного кормильца – отца, значит, надо жить и работать вдвойне. Надо помогать больной матери воспитывать, поднимать на ноги сестренок. Малы еще, проказницы. Поставишь их рядом, они, как ступенечки крыльцовые.
За Васюганом открывался знакомый с детства луговой простор. Чем дальше убегала равнинная земля, тем сильнее обволакивала ее синева, размывая ломаную сопредельную грань. Захар жмурился: прятал небесно-земное видение в себе. Открыв глаза, выпускал его в огромную, неохватную взором даль. Сегодня степенный Васюган, низинное левобережье, все дымчатое заречье в наплывах кустов и редкого топольника предстали как будто внове. Страдающая душа, прозревая, начинала различать оттенки природы. Захар запечатлевал в памяти ее переменчивый лик. Вода уже не могла заманить в свою беспросветную глубь. Она утратила власть над разумным сердцем.
Неслышно подошла Варя, положила руку на плечо. В этом переменчивом мире Захар был не одинок. Долго не начинали разговор. Смотрели на блики отдаленных озер, на стайки перелетающих уток. В чьем-то дворе заливисто горланил петух, долго и чисто выводя последнее распевное колено.
– В деревне никто кроме конюха не верит во вредительство твоего отца. Верно говорят: посей семя лжи, не жди ржи. Беду пожнешь. Какой черт послал нам в деревню басалаевскую семейку? Ты не отчаивайся – кривда без правды не живет. Когда-нибудь вернут билет, извинятся…
Долго говорили о колхозе, о будущем деревни.
По «делу» Якова Запрудина было проведено скоротечное следствие. Подтвердил: частушки, действительно, пел о плачущей корове, хватившей колхозной житухи. Ну и что?! Люди и то ревели, вступая в колхоз. Как вступили да принялись выколачивать трудодни, пахать на коровах, изматывать на работах быков и лошадей, – животные взвыли. Жадные до земли большебродские мужики сильно потеснили тайгу, раскорчевали много в надежде получить трактор. Страна пока не могла обеспечить живой сталью тысячи недавно рожденных колхозов… Можно ли за какие-то частушки лишать свободы?!