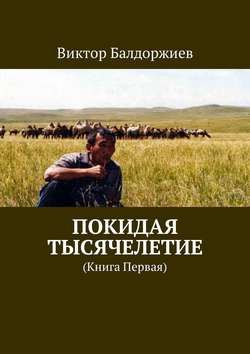Читать книгу Покидая тысячелетие. Книга первая - Виктор Балдоржиев - Страница 3
Глава первая
ОглавлениеМожно измерять жизнь днями, годами, веками.
Эта книга о том, как мы из второго тысячелетия входили в тысячелетие третье.
На острове штормит и всегда снег.
Валит и валит. Час, два, три… Всё время! Климат.
Двери подъездов давно завалены сугробами. Утром, как и многие жильцы этой хрущёвки, я вышел прямо из распахнутого окна подъезда между первым и вторым этажами. Шагнул сразу на утоптанную снежную дорожку и отправился на работу в редакцию.
В стране везде своя правда, в каждом районе газета называется «Правда». Поступил я в эту «Правду района» неделю назад, хотя вызов на остров получил в прошлом месяце, на материке, когда работал в другой «правде».
Какой-то чёрный столбик не успело завалить снегом, верхушка торчит. Копнул. Светофор! Шагнул в сторону и – ухнул в снег. Еле-еле достали прохожие. А ведь мог и остаться там. Говорят, и такое тут бывает. Собирают по теплу. Тем более, на острове водки – залейся, а на материке уже год сражаются с зелёным и ядовитым змием.
Квартиру я снял в таком месте. Дня через два пригляделся: везде дома завалены сугробами. Снег всё падает и падает. Кажется, ещё немного, и мы будем жить в подснежном царстве-государстве.
Мой наставник здесь – Барабаш. Звучит лихо, а толку пока никакого. Перспективы в нём для себя не вижу.
Дело в том, что с недавних пор, где бы я ни появился, у меня появляются наставники. Меня знают и будто ждут. Был в Амурской области – окружили, уехал от них в Острожский край, там другие объявились. Отправился в соседнюю область – обложили в первый же месяц. Рванул на полуостров, но тамошние наставники будто следили за моими передвижениями – вынырнули сразу. Или у меня мозги поехали? Или я больше других делаю? Один из наставников даже сказал: «Не работай за всех, не выпирай! Других не видно…»
Они, наставники, будто во всех редакциях живут. Только покажешься, сразу начинают опекать, как будто профилактику какую-то проводят или боятся, что кто-то опередит их в чём-то.
Территория наставников и советчиков.
И тогда я махнул от них на остров. Махнул. А тут – Нестор Барабаш. Имя сразу преображает весёлую фамилию в смесь попа и Махно. Мой Барабаш – белобрысый и щекастый мужчина с брюшком, ответственный секретарь редакции, который отвечает буквально за всё хозяйство.
Осваиваю остров. Бельдюгу в кафе не ем, кукумарию тоже. Тут и без того всё вокруг йодом пропахло. Оттого один другого умнее другого. Наставников больше, чем на материке. Все рекомендуют не говорить начальству и другим о своих намерениях, как будто я рождён для того, чтобы докладывать о своих планах и мыслях.
Теперь с острова перебраться на материк намного труднее. Интересно как чувствовали себя здесь Чехов или Дорошевич? Впрочем, с чего это я заинтересовался их чувствами?
Облюбовал я среди снежных переулочков и улиц кафе «Нептун». Хорошее место. Клиенты – глухонемые. Устроился под подобием пальмы в громадной кадке в углу громадного зала. Тишина.
За огромными зеленоватыми окнами кафе, толстые стёкла которых, наверное, никогда не мыли, падает и падает на город мохнатый снег. А в кафе – вкуснейший палтус, горячий кофе, а со мной общая тетрадь, которую я заполняю уже третий месяц. Ни одного наставника и советчика. Только глухонемые. Взгляд красноречивее слов. Столько там картин, историй и судеб! Ничего писать или говорить уже не надо…
– Азаров, ты сколько строк в месяц в прежних редакциях выдавал? – как бы равнодушно спрашивает Барабаш.
Ленивая и сытая после обеда редакция устраивает свои комплекции по креслам в кабинетах.
Я вернулся из «Нептуна», Барабаш – из соседней пельменной, говорит – три порции осваивает за один раз.
– Около десяти тысяч, – робко говорю я, удивлённый таким вопросом. Всё ещё думаю о последних предложениях в общей тетради. – А что?
– Никому не говори! Знаешь, что будет с тобой, если скажешь? – Яростно шепчет Барабаш, одновременно взлохмачивая свои кудри и плотно закрывая дверь кабинета.
Дело в том, что мне не нашлось места в других кабинетах, а ответственный секретарь Барабаш предложил столик возле своего громадного стола. У него просторный кабинет, даже диванчик в углу.
– Я тебе верю, хотя такого не бывает! Редактору говори – полторы, две тысячи. Это наши средние нормы. С твоими – мы все бездельники!
– Почему? – Любопытство моё растёт.
– По кочану! – Шипит Барабаш и смотрит на меня, как на идиота.
– Так это же естественно, – снова робко заикаюсь я. – У всех людей – дома, квартиры, семьи, дети, свои заботы. А у таких, как я, одна забота – дело. У них много своего, а у нас – своего. Ещё Горький писал: «Они – своё, а ты – своё!»
– Ох и наивный ты, как я погляжу! Ты же не Горький! – Кипит и шипит Барабаш, снова взлохмачивая свою шевелюру. – В редакции такое не брякни. Своё, своё… Наше всё. И ты – наш.
Вот как сказать, что я никакой «не наш»?
– До квартиры далеко добираться и всё по снегу. Можно, я буду в редакции ночевать? Диван есть, машинка пишущая на месте.
– Может быть, тебе заодно и ставку сторожа пробить?
– Можно! – Настроение моё взлетело,
Барабаш сразу стал ближе и понятнее всех глухонемых «Нептуна». Перспектива замигала. И голос его нормализовался…
Всё получилось: я – живу в редакции, как и должно быть. Вот теперь можно написать роман, о чём и мечтал последние пять лет.
Город залит тускло-жёлтым светом, сквозь который, наискось, лениво и обильно, падает мохнатый и мягкий снег. Теперь я с нетерпением жду 6 часов вечера, когда народ отправится в свои квартиры, к своим заботам. А я сяду за «Любаву» – лучшую пишущую машинку. И отправлюсь на материк…
И это ожидание времени, когда народ отсидит на местах своё время и повалит по своим делам и домам, укоренится во мне на всю жизнь. Ведь после этого настаёт моё время, народ как бы освобождает для меня место и время – живи и работай. Это почти 16 часов!
«В час, когда горячий желток солнца приближается к черте горизонта и начинает разжигать малиновый пожар заката, когда деревенские пастухи в бронзовеющих лучах его гонят по мягкой дорожной пыли ленивое стадо коров, – в тот час у свежевыбеленной штакетной калитки, из-за буйной поросли тополей и черёмух, появляется полная и рыхлая старуха.
Деревня зовёт её Известией. Простоволосая, в заношенном ситцевом платье, она ждёт племянника Кольку. В это время, как по расписанию, из дальнего переулка выскочил трактор с вихляющим в разные стороны прицепом. За рулем – Колька. И видит он в качающееся лобовое стекло штормящий материк, на котором стоит его весёлая деревня Сосновка.
– Бабы, убирайте ребятишек, Колька едет!»
Так я начал делать свой социальный статус, на который подвигли меня тетя Белла, в девичестве Шарланова, и её супруг – писатель Баржанский. Поскольку жизнь показала, что университеты и институты для меня совершенно не подходят: из первого меня попёрли сразу за драку, а во-втором моё недоумение преподавателями настолько затянулось, что стало благоразумным оставить это заведение, пока во мне ещё оставались капли рассудка. Потом потекли из всех щелей слухи, что я отмечен в органах в качестве социально опасного элемента. А я ещё удивлялся: с чего это начальство от меня морды воротит? Неужели нутром чувствуют мою бесполезность и опасность?
Однажды в Байкальске, куда я отправился в гости, писатель Баржанский, разливая по стаканам «Московскую», объявил, что он хоть и расстался с моей тётей Беллой, но это никоим образом не означает расставание со всеми Шарлановыми, особенно – с Витькой, в которого он верил с момента его рождения. Вера советского писателя – это создание романа, объёмом в силикатный кирпич, который навек даёт человек социальный статус и все прилагаемые к нему блага.
На самом деле тётя Белла вынесла за дверь квартиры чемоданы супруга, за ними и самого Баржанского. И он благополучно переселился в драмтеатр Байкальска, где работал режиссером.
Выслушав Баржанского о возможностях социального статуса, я отправился, навеселе, к тете Белле, где меня начало кидать и выворачивать под рёв двух тигриц – самой тёти и её дочери, моей двоюродный сестры Дины, которым уже порядком надоел пьяный Баржанский, которого они еле-еле спровадили до драмтеатра. А что будет, если и Витька станет таким же, если уже не стал? Но наутро тигрицами было подтверждено мнение изгнанного супруга и папы Баржанского, хотя ни одним словом я не упоминал его имя: мне действительно, необходим социальный статус.
В общем, со всех сторон выходило, что выжить в этой качке, именуемой океаном жизни, я смогу только заработав единственно возможный для меня бонус – социальный статус. То есть, написав роман объёмом в силикатный кирпич. Намыливая рожицу, я намеревался спросить: «А с красный кирпич не подойдёт?» – но у меня так трещала башка, что воздержаться от всяких речей и споров было практичнее.
С тех пор прошло пять лет, социальный статус в руки социально опасным элементам, каковым я числился в органах, сам не идёт. Такого вообще быть не может. Но у меня нет другого пути. Тут какой-то противоестественный клубок, где сплелись – сама цель и все препятствия для достижения этой цели.
И вот на острове, в окружении холодного океана и пробуждающейся теплоты Барабаша, я пытаюсь распутать этот клубок, строча на «Любаве» повесть о спивающемся русском мужике, которому, на мой взгляд, намного лучше жилось бы при крепостном праве. Фигня, конечно. Но не мне вертеть колесом истории…
Пока тот, кого ещё никто из людей не видел, вертит колесом истории, получается следующая современность, которую я описываю, зарабатывая недостижимый для меня социальный статус, одновременно будучи его врагом. Даже точно знаю время описываемых событий: 1983 год, Восточная окраина России, Острожский край.
«И видит он в качающееся лобовое стекло трактора штормящий материк, на котором стоит его весёлая деревня Сосновка.
– Бабы, убирайте ребятишек, Колька едет!
Известия с невероятным для её комплекции и годов проворством захлопывает за собой дверь, чтобы через минуты показаться в окне. С другой стороны низенькой ограды появляется Светланка, молодая женщина в голубеньком платье. Скрестив тонкие белые руки на груди, она стоит у калитки и молчаливо наблюдает за кренделями своего непутевого мужа Кольки. На белом лице её с крапинками веснушек горят большие смородиновые глаза.
У самого финиша трактор резво увёртывается от телеграфного столба, устало фыркнув, ещё ворчит некоторое время и нехотя глохнет.
Кусая губы, женщина обходит зеленоватую, потревоженную, лужу, огибает пышущий жаром трактор и ждёт. Так она и знала:
– А-аадержим победу,
К тебе я приеду
На-аа горячем боевом коне…
Спрыгивая с подножки кабины, успевает орать Колька.
И смачно шлёпается в лужу. Грязь, коричневая с зелёным, стекает с его промасленной рубахи, брюк, бежит ручейками по лицу и впалой груди.
Теперь ему кажется, что весь мир сфокусировал жадное внимание и любопытство на нём. Пошатываясь, он шествует по луже и кричит хриплым голосом:
– Иноррродным телам выйти из стр-рроя!
– Колька, иди в избу, – сдержанно говорит Светланка, оглядываясь, не видит ли кто?
Но уже вся улица, разбухая опарой, прилипла к окнам.
Колька с шумом выходит из лужи и, кривляясь, рассекает рукой воздух, видимо, энергично показывая как его дед когда-то рубил шашкой. Жене никак не удаётся поймать мужа. Бело-голубой птицей мечется женщина вокруг лужи, дергающегося Кольки и трактора.
Хлопают окна, двери. У заборов, на крылечках, верандах, облепленных густой зеленью, как грибы вырастают ребятишки, дородные домохозяйки, загорелые мужики в майках. Охают, качают рыжими и чёрными головами, перебрасывают из угла в угол ртов папиросы, посмеиваются, поддакивают, а то и просто смотрят с откровенным любопытством. Всё не скучно.
– Что же ты делаешь со мной, Орлов, изверг окаянный! – начинает выходить из себя Светланка, дергая мужа за рукав рубашки. Но Колька резво отпрыгивает в сторону и, оставив в руках жены рубашку, полуголый, оглядывает соседей, будто не знает – ругаться или просить помощи.
Две старухи и старик обсуждают на соседней скамейке родовую Орлова, при этом осуждают Светланку, которая никак не может бросить пьяницу-мужа. Из душной кирпично-железной темноты гаража выходит сосед, одноклассник, а ныне бригадир Орлова Вадим Кулагин. Лениво смотрит на надоевшую уличную сценку, вытирая замасленные руки ветошью. Молчит.
– Я – сын совхоза… Не хочу быть сыном! Мой дом – планета, моя любовь – природа, а вы все – мои дети… Вадька, верно я говорю?
Вдруг заявляет Колька. При последних словах Светланка крепко схватила мужа за скользкий локоть и повела в дом.
Как только захлопнулись двери дома Орловых, как тут же появилась Известия и засеменила к старухам на скамейке.
– Что ты убиваешься, Полина Андреевна! – говорит одна из старух. – Образумится же он когда-нибудь.
– Когда? – вздыхает Известия».