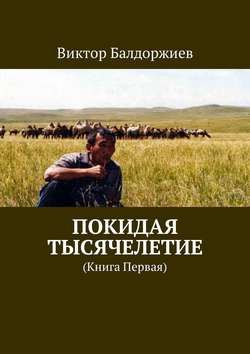Читать книгу Покидая тысячелетие. Книга первая - Виктор Балдоржиев - Страница 6
Глава четвёртая
ОглавлениеВсе в редакции привыкли, что на всех четырёх страницах – мои материалы, да и район, чувствую, привыкает. Скоро один буду газету заполнять. Вот тогда-то и заговорят сотрудники о моём увольнении. Почему такие маленькие газеты на столь большие коллективы? Ведь любую «Правду» – района, области, края может делать один-два человека. Ильич эти газетки называет носовыми платками.
Надо бы заранее новое место подыскивать…
Как же я тогда напишу роман о том, как умирает Советский Союз? Хотя, прежде, надо изобразить, как он появился. Возможна ли такая панорама? Ведь там вся история 1/6 суши, названной от варяжского слова Русь. Вот двинулся с места какой-то норманн и, пожалуйста, – спорь, не спорь, но империя случилась и втянула в свою орбиту всех, кто был на расстоянии досягаемости центробежной силы.
Вот тебе и роль личности в истории. Колька Орлов и варяг.
Редактор, догадавшись, что механизм работы организации совершенно не требует его вмешательства, подался вместе со своей супругой, числившейся в одном из наших отделов, на материк, навестить своих стариков. Теперь хозяин редакции – Барабаш. И он отпустил меня в прибрежный город, где мается в ожидании меня одержимый перестройкой Анатолий Ильич Мельниченко.
Народ называет этот японский дизель-поезд, который ходит по японской же колее вдоль побережья Татарского пролива, «Серая лошадка». Кстати, очень приличный транспорт. «Лошадь» бывает утренней и вечерней. Одно неудобство – сделан дизель для японцев и под японцев. Нашему человеку надо приспосабливаться под свои параметры.
А какие параметры у нашего человека? Если в нём больше европейского, то есть славянского, он растёт ввысь, а если больше азиатского, то есть окраинного, то – вширь. Представьте, что эти показатели балансируют? Но дизель-поезд не меняется ни ввысь, ни вширь. А сами японцы меняются?
Не знаю, из кого состоят японцы, но знаю, что мы состоим из множества, которое чаще всего растёт во все стороны одновременно. Множество, которое всегда и всём недовольно, на все вопросы отвечает вопросом. Множество себе на уме…
Насколько я спрогнозировал начавшиеся социальные изменения, почему-то названные «перестройкой», жрецы человечества собираются нас расчеловечить до основания и дальше. Выпотрошить всё содержание и оставить только формы. Согласно их замыслу должны остаться одни инстинкты. Тем более, всё руководство, начиная от простых бригадиров и заканчивая членами Политбюро, давно готовы хапнуть державу по кускам. Они и без этого чувствуют себя настоящими хозяевами всех закромов Родины. А если закрома растащить по домам?
Но без замены содержимого в человеке инстинктами это невозможно сделать. Значит, такая замена должна произойти обязательно. Писал, писал этот летописец Нестор о том, как славяне, устав от бардака, просили варягов. «…и они взяли с собой всю русь и прибыли сюда…» И брали с каждого очага по беличьей шкурке. Всего-то за порядок? А без варягов снова будет бардак? Маргарет Тэтчер надо звать. Жаль Улофа Пальме убили. Какой норманн был!
Дизель есть дизель. Хоть немецкий, хоть японский всё равно припахивает солярой. Зато, какие пейзажи открываются! Слева – заснеженные горы, густо поросшие лесом. Справа, сливаясь с горизонтом, тёмно-синяя даль Татарского пролива. Из тумана появляются, как игрушечные нефтяные вышки, контуры сухогрузов и танкеров.
Мне бы смотреть и любоваться пейзажами, но вместо этого начинаю думать о ширине японской или нашей колеи, количестве японцев, варягах, 862 годе, Несторе, Рюрике, Синеусе, Труворе, Улофе Пальме, Кольке Орлове. Причём здесь он? Или есть прямая связь с варягами и наши «кингсбладами потомками королей»? Какой сейчас год? 1986? Даже вздремнуть не могу! Сколько мы едем?
Вот как остановить этот поток, прыгающих, как тысячи обезьян, мыслей? «Забудь о всякой чертовщине! Ты же не Ленин!» – сказал мне позавчера Барабаш, когда я сообщил ему, что Христофор Колумб не курил. Мельниченко поддержал бы и развил разговор, да ещё обвинил бы Колумба в отравлении половины человечества.
А вот и он! Прибежал на перрон, ждёт меня.
– Японцев с рыбацкой шхуны видел! Их в нашей общаге поселили, охраняют, – прокричал он мне, когда я вышел с толпой народа из вагона. И это вместо «Здравствуй»?
Седой, худощавый, в куцей шубейке на холодном ветру, он вопросительно смотрел на меня сквозь свои толстые очки, которые делали его наивные глаза не мигающими и рыбьими. На берегу океана. Фотоаппарат, как и всегда, висел на ремешке и отблёскивал на солнце.
– Ну и какие они?
– У них вся одежда на кнопках и замках-молниях. Такую одежду у нас только фарцовщики продают, а они на работу одевают, – частил он по дороге.
– Слушай, какой сейчас год? – Неожиданно остановил я его.
– Ну, 1987-й, а что? Ты с этим романом вообще куда-то поехал. – Сочувственно сказал мой Ильич…
– Не стоять же на месте. Куда-то надо двигаться. Такси!
Такого автомобиля я никогда не видел. Неужели я сплю, что это за сон? Встряхнувшись, сгоняя оцепенение, я снова увидел прекрасные формы, сверкающую под солнцем белую полировку капота, багажника, хромированный бампер, немыслимые фары, колёса, ступицы которых были закрыты сверкающей штуковиной.
Приглашали садиться, а я будто онемел.
– Брат припёр из Японии, – объяснил мое недоумение водитель, когда мы с Ильичом всё-таки погрузились в мягкий и удивительный для нас салон такси. Я разглядывал кожу и бархат, какое-то приспособление возле водителя, откуда вертикального торчали две бутылочки и, по плоскости, наполовину открытая пепельница. Ильич нажал на какую чёрную кнопочку и вздрогнул: стекло окна плавно стало открываться!
– Нажмите ещё раз, – посоветовал водитель, – закроется. Тойота. Самая популярная машина в Японии. У меня брат на базе тралового флота работает. Как они умудряются на этих суднах машины перевозить?
Ильич нажал ещё раз на кнопочку, стекло поехало вверх и закрылось. Машина тронулась. Шума двигателя вообще не слышно.
– Для людей сделано! – неожиданно выдал мысль Ильич.
– Они всё для людей делают! – рассмеялся водитель. – Вы что, на окраине будет выходить?
– Ещё дальше! – весело сказал я, чувствуя в себе небывалую уверенность. – Дальше, брат, дальше…
– Но там уже погранзона. – Тревожно сказал водитель, смотря на ровный коридор дороги, по боком которой высилась невысокая снежная стена.
Справа – уходящий в туман океан, слева – заснеженные горы.
– До Лаперуза хотите дойти? – поинтересовался водитель. – А зачем вам неприятности? На Крильоне вас задержат.
– Хочу пределы обозначить! – Рассмеялся я. В сознании смутно просыпались какие-то давние воспоминания: то степь до горизонта, то – тайга из иллюминатора самолёта.
– Сейчас всё меняется моментально, – рассказывал водитель. – Раньше я ходил в загранку. Много видел. Похоже, вся страна стремится за рубеж. Не советовал бы. С острова народ валом, как горбуша на нерест, прёт.
– Откуда вы родом? – спросил у водителя Ильич.
– Иркутские мы с братом. Сначала я на путину со стройотрядом прибыл, потом брата затащил. Через год его в мореходку устроил, а сам так и остался водилой. Остров – это маленький Союз.
– Так устроено в стране, что дома никто не может прилично заработать, обязательно надо куда-то ехать. Вот и ты сюда рванул из Иркутска. Бурлит Союз! – Живо заметил Ильич.
– Говна много, вот и бурлит! – рассмеялся водитель. – Дальше, мужики пешком. Тут до Крильона близко. Поаккуратнее. Не дай бог, циклон будет. Дальше – всё в камнях и морской капусте. Не соскользните. Обратно до Шахты дойдете, поезд – вечером.
– Спасибо, брат! Привет, Иркутску.
– Когда там буду. Не забудьте, Шахты, лошадка вечером.
Машина мягко остановилась.
Двигаться дальше не было смысла.
Мы сели на камни у берега и стали всматриваться вдаль. Говорят, что отсюда до Хоккайдо около пятидесяти километров. Смельчаки уплывали на лодке. Зачем?
Желания уходить куда-то ещё у меня уже не было. Исчезло желание. Никто и никуда меня не загнал. Сам сюда стремился.
На берегу копошилось несколько человек с удочками или спиннингами. Я уже привык, что на острове всюду на берегу люди. Обычно они ищут морских червей. Длинные чудовища, похожие на жёстких гусениц. Захватил с воды водоросли, разглядел на свету морских червей и бери. Поймать на них можно что угодно.
Кто-то ищет здесь жемчуга и кораллы, государство – нефть…
У самого берега ползла по мокрым камням какая-то красноватая каракатица, на которую даже не обращали внимания или не видели мужики, искавшие червей.
Зрение для слепых, у человека должно быть видение. Каракатица оказалась чудесным крабом. Это было прекрасное существо, обладающее, видимо, такими свойствами, параметрами, органами, которые никогда не разгадает и не сможет подчинить себе человек… Вся земля, её недра, воды, глубины пронизаны существами, имеющими миллионы неведомых грубому человеку нервных окончаний, которые соединены со всем мирозданием.
Почему же мы оторваны от них и бесконечного космоса? Что я ищу на этой Земле с этим пьяным Колькой Орловым, который никак не может ожить в моей тетради и, наверное, умрёт вместе с материком, названным СССР, так и не успев осознать своей связи со всем миром? Но материк же не исчезнет от этого.
Белые птицы кричали над тёмной водой…
И этот загадочный краб, ползущий к океану, и фантастические фонтаны в туманной дали парящего океана, и плывущие чёрные точки гигантских существ, под которыми в немыслимой и страшной бездне морской воды мириады других живых существ, и мы, стоящие здесь с мужиками, и умирающие вместе со всеми, и рождающиеся, не зная об этом, миллионы других организмов на материке и островах – мы одно целое, нейроны мироздания… И никто из нас ни выше, ни ниже ни умнее и не глупее другого. Все – одинаковы. Что мне надо понять и пойму ли я хоть что-нибудь в этой бездне живых существ?
– Больше никуда не пойдём? Ты спишь?
– Нет, мой Ильич, не пойдём… Вообще, не высыпаюсь.
Все мы в мироздании одно целое. Нейроны вселенной… И никто из нас ни выше, ни ниже ни умнее и ни глупее другого. Я не делал открытий на побережье океана, впадая в очередной сюр или шиз, как Кандинский, который психиатр или Кандинский, который космический художник. Я бывал их родовом в доме. Сохранился дом!
Такие чувства, ещё не ставшие знаниями, живут в любом организме всё время, в каждой его клетке. Увидев ползущего краба и фонтаны гигантских чудовищ, показавшихся над бездной океана, мои чувства снова слились со всем, что есть и может быть… И даже крамольная мысль «Чей замысел?» подспудно не тяготила меня.
Что может тяготить человека, когда он сливается с космосом?
– Слушай, Борисыч, тут на рыбзаводе и плавбазе офигенные хищения, а на базе тралового флота – сплошное кумоство. Я тут насобирал кое-какие материалы, пять кассет плёнки отснял, – заговорил Ильич, когда мы шли на станцию.
– Знаешь, Ильич, может быть, бросим к чертям все эти дурацкие расследования? Пусть они воруют в своё удовольствие. Вообще-то я расхитителям материка должен сказать спасибо.
Сейчас, смотря с перрона на сгущавшуюся темень вдали океана, можно и, наверное, нужно было так размышлять. Всему своё время.
– За то, что тебя чуть не убили, а однажды почти убили? – Глаза Ильча за очками-лупами стали ещё больше.
– Так из-за них же я отправился на остров! Из-за них смотрю на океан, из-за них я снова начинаю понимать что-то большое.
– Из-за них у тебя ничего нет.
– А что должно быть?
Уже вечером мы добрались до общаги, где жил Ильич. Снега на побережье и в городке было намного меньше, чем за хребтами, на другой части острова, где была моя редакция.
На самом деле жильём Ильича оказалась трехкомнатная квартира, в которой он обитал с двумя парнями из судоремонтного завода. Одного из них Ильич никогда не видел, поскольку тот болтался на каком-то судне вместе с этим судном. А второй парень работал механиком на заводе. Он оказался земляком Ильича, хотя его земляки – весь Советский Союз. Но некоторое время парень жил в Кухмистерской слободке Киева, куда однажды судьба завела и Ильича. По этой причине парень теперь считался земляком моего Ильича.
Он-то и ждал нас, нажарив большую сковороду камбалы.
Казалось, что вся квартира пропитана запахами жареной рыбы.
– Вот чудо природы: один бок чёрный, а другой – белый, смесь негра с блондинкой. Вкуснющая рыба! – похвастался он, ставя на стол своё угощение и нарезая большими, как на полевых станах материка, ломтями душистый хлеб.
От такое еды грех оттаскивать даже за уши…
Даже ночью здесь ощущается бездна океана, необъяснимая разуму толща воды, природа которой плавно переходит в природу суши, и оба они пронизаны и трепещут видимыми и невидимыми живыми организмами. И каждый из них хочет жить!
В комнате, где были кровати Ильича и его земляка, шла неспешная беседа, какая бывает после сытной еды.
– Анатолий Ильич, а вы когда в перший раз с революцией подружились? – Ехидно спрашивал парень из Кухмистерской слободки.
– Давно это было. Ещё при Хрущёве. Я ведь окончил зооветеринарный техникум. Отправили меня в пермские леса. Знаешь, там они богатые! – выдохнул своё фрикативное «г» Ильич. – Одного разу я разговорився зи старим, фронтовиком. – Ильич снова перешёл на русский. – Ты представляешь, он пенсию получал – 8 килограммов зерна в месяц!
Последнюю фразу он выкрикнул и замолчал. Через долгую паузу продолжил уже спокойно:
– Насмотрелся я на счастливую жизнь, и однажды написал письмо самому Хрущёву.
– И шо?
– Мне же ещё восемнадцати лет не было. Проболтался о письме знакомым. Испуг окружающих был сильнейший, все говорили, что меня посадят без права переписки. Старик даже посоветовал скрыться… Вот я и мотался потом по разным геопартиям.
– Чи не шукали?
– Да кому оно нужно письмо моё! – Рассмеялся Ильич. – Наверное, ещё с почты передали в органы, там где-то и лежит, наверное…
Утром мы втроём отправились на судоремонтный завод. Часа два я рассматривал, а Ильич фотографировал японскую шхуну, которую выбросило недалеко отсюда на берег. Испещрив стенограммой весь блокнот на судоремонтном заводе, я почувствовал, что желудок мой тоскует по камбале. Мы снова отправились в общагу, где снова жарили рыбу, которая, кажется, сама собой появлялась в холодильнике.
После обеда редактор Ильича, симпатичный кореец, наслушавшись от Мельниченко обо мне, предложил мне перевестись в их редакцию. Я обещал подумать. Вариант хороший, хотя…
Нельзя срываться с полпути: если я привык к глухонемым и кафе, к редакционной кушетке, а самое главное только в этой обстановке начал оживать Колька Орлов, то пока не надо нарушать равномерность процесса. Менять можно только тогда, когда почувствуешь, что меняется инерция.
– Смотри, японцы со шхуны! – воскликнул Ильич, готовя свой аппарат.
Оживленно переговариваясь между собой, они шли в сопровождении двух милиционеров и каких-то чинов из районной верхушки. Обыкновенные и необыкновенные люди: среднего и ниже среднего, не похожие ни на корейцев, которых я видел много раз, ни на китайцев, живущих на материке. Отдалённо они напоминали бурят или якутов, а, может быть, и тувинцев.
Конечно, их рабочая одежда была намного лучше нашей.
– Функциональная лапотина, – заметил Ильич. – У них всё функциональное.
– Мы с тобой видели пока только одну японскую машину, но это уже другая цивилизация!
– Для людей…