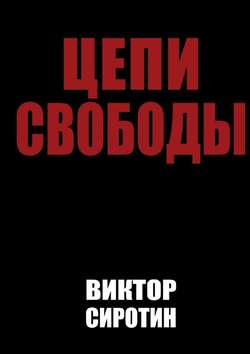Читать книгу Цепи свободы - Виктор Иванович Сиротин - Страница 10
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Бытие как оно есть
I
ОглавлениеУвы, сколько мудрецы ни наставляли, толковали и перетолковывали мир, сколько ни делалось попыток для его усовершенствования – он не меняется в своих основных характеристиках, а на дурно пахнущих рынках его по-прежнему преобладает гнилая продукция. Иначе говоря, человеческая популяция, вытаптывая в себе тлеющие искры Божественного, привычно топчется около своих неприглядных свойств, лишь утверждаясь в своих несуразностях. Именно эта затвердевшая в пороках «почва», по всей видимости, служит прочным основанием для выстраивания зла во всякую эпоху. И она же – теперь уже истощённая и донельзя отравленная – продолжает оставаться трудноискоренимой базой для язв нынешнего времени.
Если в 1950 гг. русский философ Сергей Левицкий мог относительно спокойно говорить о необходимости и возможности «сохранить своё социальное лицо в обезличивающем потоке общественной стихии», то сейчас обезличивающие процессы зашли настолько далеко, что впору не говорить, а кричать о сохранении человека, как такового. Поскольку индивидуальность рождается среди сугубо человеческих свойств, а не среди информационных матриц, лабораторных программ, технических инноваций, и, уж конечно, – не среди людей с исторически пришибленной памятью.
Теперь можно утверждать, что на смену «общественной стихии» пришёл усовершенствованный за полвека безостановочный и безотказно работающий транссоциальный конвеер, избавляющий общества и государства в первую очередь от личностей. Homo sapiens нынче не только обезличивается, но деформируется главным образом в своих человеческих качествах. И психическая деградация «в этом деле» не только случается, что естественно, но и программируется, что преступно. Тут уж не до сохранения «социального лица». Теперь необходимо, привлекая к решению проблемы учёных, философов, психологов и социологов, всесторонне исследовать феномен быстро прогрессирующих и принимающих характер массовой эпидемии социальных психических заболеваний. Ибо именно они, через разложение каждой отдельной личности, ввергают мир в тотальную деградацию. Коренясь в государствах с социально развитым управлением, эпидемия эта с особой навязчивостью заявляет о себе в странах, исповедующих огульно либеральные и около демократические ценности.
Каково происхождение этих болезней и отчего перерастают они в эпидемии? Почему столь устойчивы и в чём причина их неослабевающего деморализующего влияния?
С древнейших времён человек утвердил себя во мнении, что способен сам решать весь комплекс «земных» проблем. И совершенно напрасно решил так. Поскольку «справедливые решения» существуют лишь в воображении и в идеальных, а потому не существующих законах. Всегда относительные правила, созданные человеком в разных цивилизационных парадигмах, замыкаются в пределах его природы, что с точки зрения абсолюта как раз и гарантирует нерешаемость проблем. Ибо если природа человека первична по отношению к свободе воли, то создаётся совершенно тупиковая ситуация. Её и обозначил (не для себя, вообще-то) в доступной форме мировой буян Михаил Бакунин. Он считал: «если Бог существует, то у человека нет свободы, он – раб; но если человек может и должен быть свободен, то значит, Бога нет». Впрочем, подчиняя свой дух и волю чему-то высшему, нужно ещё быть уверенным, что речь действительно идёт о Боге, а не о фантоме, или о чём-нибудь похуже. Увы, чем больше ломали голову над этими вопросами мыслители и штатные богословы, тем меньше в них оставалось ясности…
Эхо Французской революции, некогда прокатившись в Европе, дробясь и приобретая новое звучание в отдалённых регионах, – рокотало по просторам и остального мира. Вдогонку ему неслись буржуазные и социальные реформы. Вкусив с древа технического прогресса «плод» потребительских удобств, человек на них и зациклился. В этих условиях «предоставленный самому себе, – пишет С. Левицкий о повреждении общественного сознания, – лишённый верховного руководства разумом, рассудок приводит к знанию, без понимания, к достижению без постижения». 20 Из-за недооценки или непонимания внутреннего единства духа и материи, при котором «дух» первичен, и возникали «спасительные» решения социального устроения общества.
К примеру, «безземельник» Герберт Спенсер, а за ним и Лев Толстой склонялись к понятной только им модели социализма, тогда ещё не «с человеческим» и не с «социалистическим лицом», а с выведенным Чарльзом Дарвиным – обезьяньим. Впрочем, и в лохматом четырёхруком виде оно немногим отличалось от последующего социалистического или коммунистического «лица». Если говорить о «человеческом» социализме в его некоррумпированной ипостаси, то это, пожалуй, и будет христианская модель в действии (или околодействии – это под каким углом глядеть). Это, когда ни у кого ничего нет, но ничего ни у кого и не должно быть. Что касается Бакунина, то ему доверять не будем, тем более что в своих политических инсинуациях мировой анархист договаривался до поразительных, по своей убийственности, выводов: если есть свобода, значит, нет Бога; или: «страсть к разрушению — творческая страсть». И это при том, что творчество (исходящее от позитивной духовности, а не от разрушительной) есть один из синонимов и даже принципов созидания.
Очевидно, причину социальных болезней нужно искать в разложении веками создаваемых социальных и духовных устоев общества. Тех, на которых стоит народ, зиждется страна и функционирует государство. Испытанные временем, именно они легли в основу закона.
Последний, сосредоточивая в себе и систематизируя многовековой опыт, скреплял державной печатью всё наиболее рациональное, справедливое и жизнеустойчивое, помогая выживать народу, нации и человеческой культуре в целом. Потому сокрушение именно этих основ являлось приоритетной задачей тех, кому эти устои были ненавистны.
Не заглядывая в слишком уж далёкое прошлое, затрону лишь финальную часть великого перелома. Его определила просвещенческая мысль Нового времени, вызвавшая Великую Французскую революцию и исторически не менее важную революцию в Северной Америке. Вместе с тем, имея общий источник и будучи детищем того же исторического времени, – эти параллельные революции разнятся в своём существе.
М. А. Бакунин
«Великая», поправ авторитет помазанника Божьего и свергнув с пьедестала верховную власть, сорвала с цепи самые низменные инстинкты народа, в результате чего он в одночасье оказался беспризорным, а в исторической перспективе преданным и осквернённым. Тогда как, «американская», изначально обезопасив себя от монарших проблем и института аристократии, – озаботилась созданием демократического общества на принципиально иных основах.
После победы над Югом, ослепнув от раскрывшихся исторических перспектив, объединённые Штаты самопроизвольно взяли на себя роль мирового поводыря. Политические метаморфозы выразили себя в том, что поначалу неверная «клюка» пилигримов со временем превратилась в далеко достающую полицейскую дубину, исправно расчищающую дорогу геополитическим интересам США. Причём, реализация этих «интересов» происходила вне опоры на какие бы то ни было исторические традиции (протестанство не в счёт, ибо оно опиралось на узко-конфессиональные принципы, отнюдь не противоречившие «американским» интересам). Весь перенятый у Европы опыт государственной жизни состоял в принципиальном отказе от культурно-исторического прошлого европейских стран, под чем, однако, не следует понимать технические и утилитарно-бытовые ценности (вплоть до I Мировой войны они оставались приоритетными в быту и сознании американцев). И если Европа едва ли не на всём протяжении ХIХ в. ярилась революционными знамёнами, то развитие Дикого Запада (США) в это время было отмечено постепенным переходом традиционных форм рабовладения в «более приемлемые», слегка облагороженные патиной либерально-демократических реформ и преобразований. Вся последующая история и «дикого» и не дикого Запада, вступив в ХХ в. и переступив порог XXI столетия, – являет собой историю охлократического падения традиций, морали и нравов, нашедшую опору в законе и, что много хуже, – в сознании людей.
При всей продвинутости социального устройства, основанного на приоритете утилитарных категорий, фригийский колпак мясников Великой Французской революции не был сорван с глав либеральных и демократических правительств. Не изъятый из сознания мегаполисов и не выброшенный на свалку истории, он, за ветхостью времён полинялый, истёртый и покрывшийся дырами, – продолжал оставаться знаменем «братства» безграничных свобод и «равенства» в их пороках. В то время как ревнители нравственности в викторианскую эпоху драпировали ножки роялей, дабы никому в голову не приходили мысли об оголённых ножках, – в странах и Старого и Нового Света наряду с чёрными невольниками продавались цветные и даже белые рабы, в число которых входили женщины и дети. На рубеже XIX-ХХ вв. центром торговли «белыми рабами» считался ещё вчера революционный Париж, теперь прозванный новым Вавилоном.21
Французский живописец Эжен Делакруа как в воду глядел, когда в своей картине «вручил» знамя Свободы полуобнажённой женщине. Даже и под кистью гения не избавившись от вульгарности, она чрезвычайно живописно олицетворяет собой революционно-уличную истерию.22 Такого рода «свободы» символической цепью охватили многие государства Европы. С каждым бунтом всё больше обнажаясь и распространяя проказу хаоса и вседозволенности, они к концу XIX в. заявили о себе общеевропейской проказой, с тем, чтобы в начале следующего века покрыть мир трупами миллионов. Багровея от «прогрессивных веяний времени», всё откровеннее освобождающих «тело» народа от морали и нравственности, болезни века напоминают о себе едва ли не при всяком движении социального организма. И становится ясно, что проказа вседозволенности, смертельная для жизни всякого общества и любого народа, распространяется по мере прогрессивной деформации личностных качеств, отживания индивидуальных особенностей человека и утери исторического своеобразия наций и народов.
Казалось бы, зачем так мрачно? Опасность вышеупомянутых «недостатков» хорошо известна обществу, уяснена и изучена «властителями дум». Обеспокоенные формами неврастении, они давным-давно начали бить тревогу. К примеру, французские писатели ещё в середине XIX в. выступали в печати, негодуя на падение нравов, принявшее характер массового отлучения от овеянных сединой веков обычаев и традиций. Впрочем, бывало всякое. Если, скажем, Генриху Гейне революционное разрушение классических и нравственных ценностей казалось недостаточным, то Жюль Мишле и Пьер Прудон находили их чрезмерными.
Разнобой мнений объяснялся не столько убеждениями, сколько характером общественно значимых людей или «личностей на слуху», которые до известной степени определяли общественное мнение. В какой-то мере влияя и на стиль жизни, люди эти не всегда могли служить для молодёжи хорошим примером. Так, разночинец Гейне всю жизнь мечтал пробиться в «благородное сословие», но это ему не удалось и он люто возненавидел аристократов. Историк Мишле, родившийся, как он любил напоминать, в «крестьянской семье» (но, всё же, предпочитавший жить в скромном старинном замке), был твёрдым клерикалом. По его убеждениям краеугольным камнем храма (сказывалась-таки каменная обитель!) и фундаментом гражданской общины должен быть семейный очаг. Социалист и теоретик анархизма Прудон, по Герцену, – «один из величайших мыслителей нашего века», по своему происхождению был крестьянин. Но это, ничуть не мешая ему провозглашать свободу без очевидных границ, каким-то образом удерживало его в рамках крайней патриархальности. Отсюда неприятие им женской эмансипации.
Характерной приметой времени был «банкет в день рождения Христа», описание которого Прудон дал в своём журнале «Peuple». Вовсе не разделяя свобод зарвавшихся социалистов, он пишет: «Собрание было открыто достойным образом – чтением Нагорной проповеди; за гимном в честь братства, спетым с большим воодушевлением, последовал ряд тостов» (опуская несущественные детали, привожу лишь основные «тосты». – В. С.): «За Христа, отца социализма!»… «За пришествие Бога на землю!»… «За Рождество!»… «За Сен-Жюста, жертву термидора!»… «За воскресение Христа, за Францию!»… и тому подобное. «Интересно, что сказали бы газеты «La Raison» или «L’Action», – через полвека иронизирует правый социалист Эмиль Вандервельде, – если бы социалисты 1904 года собрались под Рождество, занялись чтением Нагорной Проповеди, стали приветствовать сошествие Бога на землю и провозглашать тост за Христа, отца социализма!». 23 Впрочем, сам Вандервельде вряд ли способен был вообразить, во что через считанные годы выльются «социалистические» оргии в большевистской России, которые превзошла лишь эмансипация «красных дам» или «мегер революции».
Любопытно, что Россия, в лице «прогрессивновой части общества» долго и безуспешно гонявшаяся за Европой, именно в этом отношении «догнала и перегнала» свою дотоле неуловимую наперсницу. В середине того же столетия на страницах «передовой печати» о себе заявила социал-разночинная интеллигенция, в пику неожиданно «отставшим» французам громко отстаивавшая (как скоро выяснится – нелимитированные) женские права.
Критик М. Михайлов на страницах журнала «Современник» выступил с «разоблачениями» взглядов Прудона на брак и на семью, назвав позицию автора возмутительной. Книга же Мишле, писал Михайлов, ставя моральные ценности с ног на голову и ворочая критериями как ему заблагорассудится, – «производит впечатление безнравственной»! Вслед за ним и «передовая социал-демократия» России решительно осудила «реакционное», конечно же, «ущемление прав женщин».
Результаты не замедлили сказаться.
Падение религиозности оттенялось ростом демонического сознания и сопутствующим ему падением нравов. Особенно заметно обозначив себя в журнальной публицистике и газетных опусах социал-«демократической мысли», – эти новшества обрели стиль и заполонили собой сферы изобразительного искусства, музыку, поэзию. В соответствии с неугасимыми «веяниями времени» один из первых Нобелевских лауреатов по литературе итальянский поэт Джозуэ Кардуччи, успешно прошедший «школу» итальянского масонства и успевший даже побывать вице-Великим Мастером, – после антиклерикальных выступлений пришёл к сочинению гимна Сатане. Этот гимн, писал Сергей Нилус, «выражает пожелание, чтобы отныне курение фимиама и пение священных гимнов приносилось Сатане как „бунтовщику против Бога“». В этом отношении сравнявшись с Европой (а кое в чём даже и превзойдя её), некоторые отечественные «мастера культуры» стремились оказаться впереди планеты всей. И оказались.
Исповедуя гордо-анархические лозунги, предреволюционные «небожители» России надрывались в «титанических» и «сатанинских поэмах» в музыке, в прозе и поэзии. Эти тенденции особенно ощутимы были в творчестве одного из крупнейших представителей художественной культуры конца XIX начала ХХ вв. музыканта и пианиста Александра Скрябина. Что любопытно, – как раз в то время, когда иерархии общества рушились во всех своих ипостасях. Тогда же было предано забвению негласное правило: «Что позволено Юпитеру, то не позволено быку».
Величавый пафос произведений Скрябина привлёк немало весьма одарённых, множество талантливых и бесчётное число бесталанных последователей. За «Юпитером» в музыке, «словно лань», «бурно ринулись» весело приплясывающие «Менады» Вяч. Иванова, «куклы» П. Потёмкина, и прочее. Так же и Ф. Сологуб.
Крупный поэт, но всё же не «Юпитер», метался между откровенным сатанизмом и «премилыми овечками». Душный мир Сологуба оттеняли упаднические настроения поэтов Серебряного века. Мастер «мелочей прелестных и воздушных» М. Кузьмин отражал сомнительные духовные рефлексии как «уставших от жизни», так и далёких от неё. Вербицкие и Арцыбашевы наслаждались психологическим состоянием низовых элементов общества. За популярными в толпе писателями и поэтами тянулся длинный шлейф из стихотворцев, так и не сумевших настоять на себе в эпоху «серебряного» безвременья.
Впоследствии немецкий философ Освальд Шпенглер, предостерегая культуру именно от подобного рода «цивилизационной модели», писал: «Сущность всякой культуры – религия, следовательно, сущность всякой цивилизации – иррелигиозность». Цивилизация, – позднее вторил ему английский историк и философ Джорж Коллингвуд, – это процесс вытеснения природного элемента человеческой жизни общественным, процесс, никогда не достигающий завершения (но, добавлю от себя, – всегда тяжело травмирующий душу условного «человека»).
Ортега-и-Гассет, озабоченный оскудением естественно-человеческого начала, активно терявшего свои позиции в индустриальном бытии, – в книге «Дегуманизация искусства» (1925) писал о том, что современное искусство стремится к дереализации, к избавлению от человеческого. Художник отворачивается от реальности и обращается к изображению мира идей, создавая образ ирреальности. В этом плане характерно творчество П. Пикассо, И. Стравинского или Дж. Джойса, которые целенаправленно исключает массы из культурной жизни. «Строго говоря, – делится с читателем испанский философ, – мы обладаем не самой реальностью, а лишь идеями, которые нам удалось сформировать относительно неё. Наши идеи как бы смотровая площадка, с которой мы обозреваем весь мир». Оно бы ничего, но «площадка» эта всё увеличивалась в размере, грозя закрыть собою реальность…
Итак, – что толку с того, что «обо всём этом» с незапамятных времён бьют тревогу мыслители, одиночные блюстители нравственности и часть не утерявших здравый смысл людей? Проблема ведь как раз в том, что очень давно и слошком долго бьют тревогу. Да и общество ли «бьёт»? Малая толика его, которая, по этой причине не представляя собой всё общество, не имеет ни силы, ни влияния на происходящее. А всё потому, что из массового сознания вытравляется здравое мышление, толковое мировосприятие и естественные привязанности. Пытаясь внести ясность в этот вопрос, Ортега-и-Гассет отмечал, что истинная элита это не «благородные слои» общества, не те, кто «кичливо ставит себя выше» ибо занимает высшие эшелоны власти, – а то меньшинство, которое составляет высшую в умственном и нравственном отношении часть класса, способную к действию и исторической инициативе.
Увы, за тонкостью слоя «умственного класса» и непробиваемостью власть имеющего, идеи мыслителя не могли быть задействованы. Они попросту были не интересны последнему. Что касается остального, куда более многочисленного общества, то, потеряв духовное зрение, оно предпочитало «убивать время», впустую тратя и прожигая жизнь. Между тем искусственно создаваемая (по своему характеру – псевдо) реальность, заполоняя сознание и вытесняя из него всё несовместимое с синтетическими развлечениями, – способна к самовоспроизводству, сорному существованию и паразитному развитию. Начав главенствовать в обеднённой душе общечеловеков, «предметная реальность» неизбежно приводит к самоценности вещепаразитизма и в сознании и в жизни. И «вещность» эта, в своих замысловатых разветвлениях и комфорте со времён испанского философа уйдя далеко вперёд, уже не столько обременяет собой человека, сколько изощрённостью и количеством развлечений пожирает его бытие (к примеру, за один только 2009 г. американская индустрия видеоигр продала свои изделия на 20 млрд. долларов!). Уже младший современник Ортега-и-Гассета американский философ Герберт Маркузе вынужден был обратить внимание общества на опасность быстро растущего вещно-рыночного монстра.
Развитие науки и техники, считал Маркузе, позволяет господствующему классу социально развитых стран сформировать через механизм потребления новый тип массового «одномерного человека» с атрофированным социально-критическим мышлением, а его старший современник Карл Юнг беспощадно констатирует: в области науки и техники мы вступаем в атомный век, а в области духа всё больше регрессируем в каменный век.
Активно прогрессируя в середине ХХ столетия, к концу его плоское мышление превратилось в океан общественного безмыслия, в котором кое-где пока ещё высилась уникальная одарённость и тревожная мысль не утерявших навыков мышления. «В наше время, – писал как раз в это время Левицкий, – вопреки Гегелю, действительное – неразумно, и неразумное – действительно». Парадокс сей объясняется не только отсутствием баланса и даже разрывом цивилизации с культурой (что само по себе трагично), но и отрывом истинного мышления от мира пустых реальностей.
Нынче в индустриально цивилизованных странах потребителю предлагается столько сорных удобств «для жизни», что он не успевает не только осмыслить происходящее, но ему и жить-то не остаётся времени. Всё, на что его хватает, – это полумеханически обслуживать специально для него созданный конвеер потребления. Вещный материализм настолько усложнился (и в арифметической прогрессии продолжает усложняться), что теперь просто пользоваться предметами уже не представляется возможным. Для этого нужно изучать (то есть, – получать специальные знания в школах, колледжах и даже университетах), как применять простые по своему назначению, но сложные в употреблении вещи. И не только вещи, но социальные, бытовые и прочие, «облегчающие жизнь», блага, навязанные в качестве «предметов первой необходимости», которая уступает лишь первейшей оплатой их.
Можно не сомневаться, что служители маркетингового культа прекрасно знают, что они делают (производят) для кого и в каких целях. Потому и не пытаются заменить индустрию игровых и прочих развлечений на что-нибудь менее духовно и психически разрушительное. В противном случае переориентировали бы производство «вещной реальности», таким образом существенно снизив духовную деградацию «хомо сапиенс». Но о чём они точно не догадываются, – это то, что являются первыми жертвами духовного и морального разложения.
Проблема тем более актуальна, что сущность человека разрушается темпами, много опережающими защитные ресурсы трагически быстро истощающейся психики. По этой причине социальные акселераты всех слоёв общества не успевают оценить опасность. Чтобы упредить её, каждой новой эпохе необходимо комплексное понимание проблемы, чего не происходит, ибо ощущают и понимают опасность лишь те, кто успел ощутить трагизм разрушения личности. Когда же понявшие начинают делиться своими открытиями, то натыкаются на предсказуемо враждебное отношение сначала со стороны «дирекции» Рынка, а потом со стороны потерявших уже навыки мышления и плотно «севших на иглу» потребления. К слову, гибельная тяга к индустрии развлечений происходит не по «глупости молодости», а ввиду того, что эмоциональное восприятие, увлекаемое энергией роста, обгоняет способности юношества к анализу происходящего и сознаванию последствий. Ведя к истощению внутренних потенций и патологии внешних привязанностей, это в конечном итоге приводит к исчезновению инстинкта духовного и социального самосохранения.
Истощение внутренних ресурсов человека закономерно обернулось потребностью в новых ценностях и, понятно, ценниках на них.
Если в далёкие 1970 гг. «фирменный» полиэтиленовый пакет свидетельствовал о материальном благополучии его обладателя, то теперь, «вещь», упакованная в «пакет» маркетинговой эпохи, – в принципе стала символом уровня и стиля жизни. «Облагороженные» духовными претензиями, но олицетворенные в вещах, — новые (как копеечные, так и очень дорогие) «индульгенции» раскупаются в количествах, о которых папский клир не смел и мечтать! Причём если долютеровские покупатели, развязывая кошель, по-своему всё же заботились о душе, ибо надеялись на Рай «там», то нынешние покупатели, не имея подобных иллюзий, – стремятся найти его здесь. Эта «здешняя идея» тесно связана с, во времена Кальвина поставленной Западу, ветхозаветной идеологией. Опираясь на неё, нынешние строители «башни» глобального мира создают единый для всех народов язык потребления, в которых материальный успех не просто признак благодати, а сама благодать.
Тем не менее, устранение личности и самой сущности человека достигло такой степени, что пришло время осознать простую истину: массово проводимое оглупление и идиотизация населения, уничтожающие человека в его духовной, творческой и мыслящей ипостаси, – ничуть не менее преступно, нежели его физическое устранение. Нужно понять (пока это ещё возможно), что это такое же преступление против человечества, как и то, которым заклеймили себя германские nazi! Поскольку, и тупеющий от несчётного числа материальных благ потребитель, последовательно выводимый из паскалевского «мыслящего тростника», и одеревенело существующая человеко-овощь относятся к бывшему человеку…