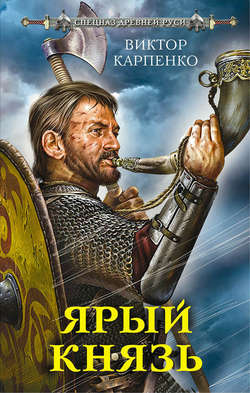Читать книгу Ярый князь - Виктор Карпенко - Страница 19
Книга 1. На острие меча
Часть I. Князья суздальские
Глава V. Хлыновские повольники
2
ОглавлениеПочти месячная суета сборов наконец-то закончена, и санный поезд вытянулся от княжеского двора к Дмитровской башне. Наступил час прощания. Зарёванные мамки и няньки стояли в стороне и с жалостью смотрели на свою воспитанницу. Великая княгиня Анна кончиком плата вытирала набегавшие слёзы, и только великий князь нижегородский Дмитрий Константинович спокойно взирал на хлюпающую носами челядь, и на своё семейство, и на младшенькую Евдокию, поблескивающую голубыми глазёнками из мехов не по росту большой шубы.
– Как ей там-то, птахе нашей, на чужбине будет? Отроковица, а уж замуж. Ладно бы дородностью да статью вышла, а то, что дитё малое, – причитала боярыня Авдотья Брагина.
Ей вторила княгиня Агриппина, жена Городецкого князя Бориса:
– По возрасту и ничего бы – тринадцать, да в кости мелковата. Ништо, чай, в постельку-то сразу не уложат, а там подрастёт.
Дмитрий Константинович, нагнувшись, поднял дочь на руки и, поцеловав в лоб, напутствовал:
– В дороге не балуй! Знаю я тебя, проказницу. Боярыню Ростиславу слушайся. А к свадебному пиру и мы приспеем. Ну, с богом!
Вскоре санный поезд почти в две сотни возов под охраной малой княжеской дружины вышел из Нижнего Новгорода, и путь ему лежал далёкий: аж до самой Коломны, где ждал тринадцатилетнюю невесту шестнадцатилетний жених – великий князь владимирский, князь московский Дмитрий Иванович.
Не просто далось сватовство. Кто только не отговаривал Дмитрия от этого решения: и епископ Алексий, и бояре московские, и кое-кто из младших князей, но великий князь остался верен своему слову, и как только ему исполнилось шестнадцать – заслал сватов. Не остановил его даже пожар, случившийся в прошлом году на Москве. Больше половины города выгорело дотла. Потому венчание назначено в Коломне – вотчине московских князей.
К началу января санный поезд подошёл к Коломне. Город, сродни Нижнему, стоял на взгорье у слияния рек Оки и Москвы. Опоясанный высоким частоколом чёрных дубовых стволов, он поднимался посадами к княжескому терему и белеющей строгими каменными стенами Воскресенской церкви.
Князь Дмитрий Константинович с семейством прибыл двумя неделями позже и остановился на дворе своего зятя – воеводы коломенского Микулы Вельяминова, остальные же гости – нижегородские, суздальские, владимирские, Городецкие и иных княжеств – разместились по дворам купеческим. Накануне венчания провели сговор. Евдокию на него не пустили – по свадебному чину не положено, но она всё-таки ухитрилась подсмотреть и послушать, о чём говорили бояре московские и нижегородские. Там же она увидела и своего будущего мужа: Дмитрий подрос и, как ей показалось, несколько возмужал. Отец одарил будущего зятя первым благословением – образом, кубком, бархатом, сороком соболей, поясом, расшитым золотой нитью и драгоценными камнями. Получил в ответ тоже немалые подарки. Сговор проходил душевно, по-семейному. Княгиня Анна расспросила князя Дмитрия о здоровье, расцеловалась с ним через платок, вслед за ней также через платок жениха расцеловали подружки невесты – княжны и боярышни, присутствовавшие на сговоре. Обидно и досадно было Евдокии смотреть на такое. Да делать нечего: обряд того требует.
На следующий день и она получила от жениха множество подарков, а также перстень и панагию[21].
В день свадьбы собрались все участники торжества: тысяцкий, свахи, дружки, поезжане, бояре и боярыни, конюший, свечники, коровайники… Когда всё было готово к венчанию, известили жениха и невесту.
Князь Дмитрий Иванович в парчовом кафтане, расшитом каменьями, в отороченной куньим мехом шапке, в красных тонкого сафьяна сапогах, гордо восседая на аргамаке, в сопровождении дружек подъехал в дому невесты. Та, уже убранная в дорогие наряды, с распущенными по плечам волосами, в окружении подружек сидела за столом. Услышав, что жених у крыльца, Евдокия в нетерпении выскочила из-за стола, но сваха, нависнув над ней своими телесами, осадила:
– Не время ещё. Как токмо коврами дорогу до церкви выстелют, так и неспешно тронемся.
Наконец-то Евдокия на высоком резном крыльце. Солнце слепит, снег искрится, на душе жутко и весело. Перед крыльцом бьют копытами разряженные кони, впряженные в богато убранные сани. Евдокия важно и медленно, как учили, садится на скамью и утопает в мехах. Дмитрий справа. Он всё так же на коне, глядит строго, по-взрослому, будто и незнаком вовсе. По команде тысяцкого начинается шествие к храму. Впереди свечники, за ними коровайники… Пройдя не более ста шагов, шествие останавливается, князь Дмитрий спрыгивает с аргамака и подает руку Евдокии. Они рядом. Шествие возобновляется. Священники кропят путь святой водой. Перед входом в церковь молодых осыпают хмелем. И всё это под малиновый перезвон колоколов церквей коломенских и под ликующие крики толпы.
От множества людей в храме душно. Горят свечи. Священник в золочёные ризы одетый, строг. Евдокия от волнения и страха еле держится на ногах. Словно сквозь плотную завесу доносится:
– Во имя отца, и сына, и святаго духа, аминь!
Идёт венчание чередом. И вот уже обводят молодых вокруг алтаря. Великий князь владимирский Дмитрий, склонившись, целует Евдокию в губы: коротко, неумело. Она – великая княгиня. Не верится. После совершения обряда венчания новобрачные причащаются Святых Таинств.
Оставив князя Дмитрия в церкви на венчальном месте, свахи отводят молодую на паперть и снимают с её головы девичий убор и, разделив волосы надвое, заплетают их в две косы, которыми венчают голову. Затем, накрыв кокошником, покрывают голову фатой и подводят к новобрачному.
И опять ликующая толпа, колокольный перезвон, свадебный поезд. Вот и двор княжеский. На пороге терема князь Дмитрий Константинович с княгиней Анной. Они целуют молодых, осыпают зерном, хмелем, золотыми и серебряными монетами, чтобы жилось сытно, богато, весело.
Расселись в палатах по свадебному чину, и начался пир.
Дубовые столы ломились от яств и хмельных медов. На почетном месте под образами – молодые. Несмотря на то, что Евдокия сидела на высокой подушке, её еле было видно из-за стола. Но рост и возраст не помеха. Три дня и три ночи продолжалось пиршество, сопровождаемое песнями, музыкой и скоморошьими представлениями. Пили чаши заздравные, пили хвалебные, пили приветные… рекой лилось вино ромейское, меды сладкие, хмельные… шум, гам, ряженые, кругом голова…
После свадебного пира гости разъезжались довольные: каждый получил подарок по чину.
Прощаясь, Дмитрий Константинович напутствовал великого князя владимирского:
– Судьбами божьими дочь моя приняла венец с тобой, князь Дмитрий Иванович, и тебе бы жаловать её и любить в законном браке, как жили отцы отцов наших. Береги её.
Отгуляв свадьбу, молодой князь с небывалой энергией принялся за дела житейские. Хотелось и себя показать перед молодой женой, и делом доказать, что титул великого князя ему по плечу. Вернувшись в сгоревшую Москву и видя, что она возрождается, прорастая срубами из золотистой сосны и лиственницы, князь задумал строить кремль каменный, чтобы неподвластен был ни огню, ни ворогу.
Камень для строительства стен и кремля возили по зимнику из каменоломен, расположенных ниже по течению Москвы-реки, за селами Коломенским и Островом, у сельца Мячково. Камень возили и в стужу, и в метель, и в дни ранней оттепели. Шершавые, многопудовые плахи складывали на расчищенные от пожарища места. А как оттаяла от зимней стужи земля, начали копать ямы под фундаменты. Строительство вели огородники – мастера крепостного строительства из Новгорода и Пскова, зодчии многоопытные, знавшие приёмы шлифовки и кладки камня, тайны прочности известковых растворов и особенности поведения грунтов при тысячепудовой нагрузке крепостных стен.
Медленно поднимаются стены кремля, куда быстрее растут посады, торговые ряды, дворы бояр и купцов.
Молодой князь, обозревая строительство с только что возведенной Собакиной башни, верил, что скоро и дворы будут из камня. Рядом с ним его маленькая жена Евдокия. Будучи отроковицей, она стала матерью и покровительницей обездоленных бездомных погорельцев, вдов и сирот. Евдокия уже начала свыкаться со своим высоким положением, примирилась с нелюбовью епископа Алексия и многих московских бояр. Да и не так важно это было. Главное, что Дмитрий люб и она для него что солнышко в окошке.
– А что, хорош город я строю? – наливаясь гордостью, вопрошал князь свою юную жену. – Токмо пять тысяч работных камень возят, да две на стенах, да тысяча в кузнях и известковых ямах. Любо?
– Любо! Ох, как любо!
– А реки вскроются… то-то ещё будет… По рекам-то сподручнее камень возить, а значит, и строительство споро пойдёт. За каменными стенами никакой ворог не страшен…
– Защитник ты мой, – прильнула худеньким тельцем к своему юному мужу Евдокия. – Батюшка весточку прислал, пишет, что по весне остерегаться надобно не татар, а своих… каких-то ушкуйников. Просил тебя о том известить.
– Ушкуйников? – усмехнулся Дмитрий. – Не беда. То тати шатучие. Мне они ведомы. Коли разбойничать начнут, урезоню, – решительно тряхнул длинными волосами великий князь владимирский. – Кого и опасаться следует, так то князей тверских. Ты же отцу отпиши, чтобы не тревожился. Коли надобно будет, помогу дружиной. Чай, ноне великий князь нижегородский Дмитрий Константинович не чужой мне…
21
Панагия – маленькая иконка, носимая на груди.