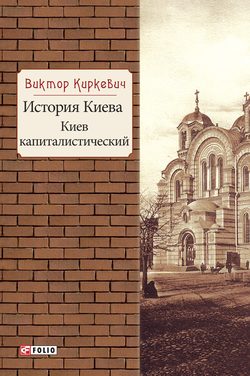Читать книгу История Киева. Киев капиталистический - Виктор Киркевич - Страница 7
Царь-освободитель крестьян или мещан?
Героический кавказец в Киеве
ОглавлениеСейчас некоторые утверждают, что в империях, царской или советской, хорошо относились к малым народностям. А если разобраться, то по-настоящему их не замечали, как идущий по траве человек не обращает внимания на букашек. Всегда государственные чины считали, что легче управлять однородным населением. Поэтому при некоторых царях и генералиссимусах время от времени происходили переселения, ассимиляция и такая «чисто житейская вещь», как обрусение. Для примера возьмем данные о судьбах малых народностей Кавказа.
Сражением, произошедшим у Красной Поляны 21 мая 1864 года и победой царизма закончилась многолетняя русско-кавказская война. После чего началось полноценное осуществление плана Ермолова и Лазарева, главным принципом которых был девиз: «Нет людей – нет проблем». Они стирали села с лица земли и безжалостно вырезали население. Взгляните на количество этнических групп в районе Сочи до и после геноцида:
Шапсуги – было 300 000, осталось 4 983;
Абадзехи – было 260 000, осталось 14 660;
Натухаевцы – было 240 000, осталось 147;
Бжедуги – было 60 000, осталось 15 263;
Темиргоевцы – было 80 000, осталось 3 140;
Жанеевцы – было 1 200, осталось 0;
Махошевцы – было 8 000, осталось 1 204;
Гатукаевцы – было 20 000, осталось 606;
Садзы – было 63 000, осталось 0;
Убыхи – было 15 000, осталось 0.
Таким образом, распространенный имперский девиз зазвучал по-другому: «Уничтожай и властвуй!»
О пребывании борца за свободу народов Кавказа Шамиля в нашем городе известно так мало, что позволю себе остановиться на этом более подробно. В начале декабря 1868 году Шамиль с семейством прибыл в Киев. С ним был сын Гази-Магомед, со своей второй женой Хабибат, на которой женился еще в Калуге.
Попечительство над Шамилем было поручено военному коменданту города генерал-лейтенанту Новицкому. Милютин направил ему секретную инструкцию «О порядке надзора за Шамилем», которую утвердил Александр ІІ. Первый пункт ее гласил: «Правительство, вверяя киевскому коменданту надзор за Шамилем, возлагает на него также обязанность ограждать его от всего, что может отягощать его положение, и в уважительных просьбах быть за него ходатаем». За имамом сохранялся «присмотр постоянный, но для него не стеснительный», повышенное содержание (15 тыс. руб. в год), а также предусматривались дополнительные деньги на другие нужды. Казалось, деньги немалые, но семья была еще больше – дети, невестки, жены, внуки. Поэтому жили скромно, без роскоши, снимали усадьбу офицерши Масаловой. А инструкция имела больше совещательный характер, чем запретный, скорее, руководство по тактичному обращению с новым гражданином Российской империи. Шамилю отвели часть дома на Крепостном переулке. Незамедлительно после приезда жилище уважаемого горца обступила киевская публика, охочая до зрелищ. Самые пронырливые напрашивались на прием, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Украинские патриоты после своих визитов оставляли, как бы невзначай, рукописные списки поэмы Т. Шевченко «Кавказ». Ссыльные мусульмане приходили к имаму совершить свой пятничный намаз. Шамиль прогуливался по городу в национальной одежде, всегда в сопровождении сына. Власти высказали пожелание, чтобы деликатно подвели имама к перемене веры. Поэтому ему рассказывали о христианстве, водили по храмам. С ним посетили Софийский собор, спускались в Лаврские пещеры. Для него это было чуждо и не вызвало ни малейшего интереса, все мысли были заняты желаемым паломничеством в Мекку и Медину. А Днепровские кручи ему нравились. Каждый день он выходил на отроги гор и с юношеской легкостью прирожденного горца спускался стремительно вниз, к самой реке. Там долго стоял и смотрел на лед, ожидая скорейшего ледохода. Столь желаемое дальнее путешествие было возможно только из Одессы, а до нее можно было добраться исключительно водным путем. А тут лед!
Он из Киева писал кавказскому наместнику Михаилу Николаевичу, там были такие строки: «В настоящее время являюсь слабым и дряхлым, боюсь, чтобы без исполнения святого моего долга не пришлось мне расстаться с земной жизнью и поэтому обращаюсь к Вашему Императорскому Высочеству с самой искренней просьбой, испросить у Государя Императора разрешения отправиться мне с семейством в Мекку и вместе с тем пристроить моих взрослых дочерей, оставив в России дорогих сынов моих Гази-Магомеда и Магомед-Шапи. По исполнении святой моей обязанности, если Бог продлит мои дни, я долгом сочту возвратиться в Россию».
Узнав об этом, Александр ІІ разрешил выезд Шамиля, но пришлось пару месяцев потратить на оформление дипломатических формальностей и получение заграничного паспорта сроком на один год. Разрешение отправиться в паломничество получили все родственники Шамиля, кроме старших сыновей. Магомед-Шапи не отпустили со службы, а Гази-Магомед проводил отца до посадки на пароход из Одессы. Из Киева отплыли 12 мая 1869 года, и вскоре достигли порогов. Там несколько километров по суше, потом снова по воде до Одесского порта. Шамиль не задерживался в приморском городе и 18 мая имам провожал глазами уменьшающую фигуру сына на причале. Гази-Магомед вернулся в Киев к своей молодой жене и маленькой дочурке.
Имам Шамиль с сыновьями. Фото XIX в.
После годового путешествия по исламским странам Востока, где его встречали с триумфом, Шамиль обосновался в Медине. Там он определил младшего сына в медресе, а дочь выдал замуж. Но не принесла Аравия счастье семейству Шамиля – начали одна за другой умирать дочери, и имам сам тяжело заболел. Летом 1870 года он написал в Киев письмо своим сыновьям с просьбой приехать повидать его перед смертью. Братья обратились к Александру ІІ с просьбой позволить навестить отца, но, учитывая, что Магомед-Шапи находился на военной службе, император разрешил выехать в Аравию, которая находилась в составе постоянно воюющей с Россией Оттоманской империи, только киевлянину. Дипломатические и бюрократические проволочки привели к тому, что Гази-Магомед потерял драгоценное время и смог отправиться в путь лишь через полгода, оставив в Киеве жену и дочь. Те страны, через которые он проезжал, спеша к отцу, находились во враждебных отношениях с Россией. Они стремились вовлечь наследника имама в сферу своих интересов, но Гази-Магомед вел себя крайне сдержанно, и мечтал только увидеть отца живым. Но не судилось. 4 февраля 1871 года героя Кавказа не стало. Шамиля похоронили на кладбище аль-Бакия неподалеку от могилы дочери Пророка Фатимы, за мавзолеем Аббасидов. Гази-Магомед совершил все необходимые обряды над могилами отца и сестер. Отпуск подходил к концу, вдовы отца просили его остаться, но нравственная обязанность сдержать слово заставила его вернуться в Киев. Там его уже ждал Магомед-Шапи. Снова братья обратились к императору с просьбой разрешить уехать навсегда – для поддержки осиротевшего семейства Шамиля. Александр ІІ разрешил Гази-Магомеду дать бессрочный отпуск «для опеки над вдовами Шамиля и малолетним сыном». Ему выдали пенсию имама, и он получил на дорожные расходы 7 тыс. руб. В конце ноября 1871 года киевский наиб отправился в Мекку. Дальнейшее не касается моего города, поэтому сообщу, что умер он в 1902 году и похоронен рядом с отцом, а его младший брат Магомед-Камиль дослужился до турецкого маршала и в 1951 году скончался.
Семейство имама Шамиля. Литография, В. Т. Тимм, 1860 г.