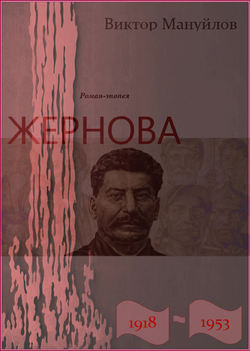Читать книгу Жернова. 1918–1953. Книга третья. Двойная жизнь - Виктор Мануйлов - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть 9
Глава 22
ОглавлениеИ Аннушка стала приходить к Александру почти каждый день. Она садилась за стол, который Александр вынес из комнаты и поставил посреди мастерской, открывала учебник и поначалу просто изображала чтение, но потом, попривыкнув, стала учить уроки, как если бы сидела у себя в комнате в заводском общежитии.
На первый сеанс она пришла, надев на себя все самое лучшее, что у нее было, и очень огорчилась, когда Александр не оценил ее старания.
– Разве ты в общежитии тоже ходишь в этом? – выговаривал он ей. – Наверняка в каком-нибудь сарафанчике, которому в обед будет сто лет.
– Так то ж в общежитии! – изумлялась Аннушка и смотрела на Александра укоризненно.
– Вот это-то мне и нужно – естественность. Понимаешь? Чтобы любой глянул и понял: да, это в общежитии, да, работница, да, еще и учится. Ведь это и есть знамение времени! Понимаешь?
– Понимаю, – тихо отвечала Аннушка, ничего не понимая: ей хотелось выглядеть красивой, необыкновенной, а не такой, как в общежитии, среди девчонок. И потом… вот приходили к ним на завод снимать для киножурнала, так всех переодели в новые халаты, вместо косынок велели надеть шапочки, как у докторов, всех попудрили, всем подкрасили брови, ресницы и губы, – и это понятно, потому что красиво. А тут картина… Вдруг ее повесят в «Русском музее», и все будут ходить и смотреть, а она такая вот… обыкновенная.
И все же на другой день Аннушка уже сидела за столом в "домашнем": вылинявший сарафанчик, холщовая блузка с коротким рукавом, расшитая по воротнику, собранные в пучок волосы, заколотые гребнем. Домашнюю одежду она принесла с собой, переоделась в комнате и, когда вышла в мастерскую, чувствовала себя почти раздетой, краснела и не знала, куда деть свои большие руки.
– Вот! Вот это совсем другое дело! – радовался Александр, похаживая вокруг стола и оглядывая его и Аннушку хозяйским взглядом. – А вот это вот колечко – его не надо! Сними! Это – пережиток. Ты же не в деревне!
И опять Аннушка вспыхивала и под столом, прячась, снимала с пальца серебряное колечко с зелененьким камушком, единственную свою ценную вещь. К тому же ее очень смущал пристальный взгляд Александра. Ей казалось, что и после того, как она сделала так, как ему хотелось, он все еще ею недоволен и, наверное, жалеет, что связался с нею, деревенской девчонкой. А она уже боготворила его, любила и боялась. Александр казался ей воплощением чего-то неземного, чего-то из бабушкиных сказок, как Бова-королевич, которому и нужна королевна же, а не такая деревенщина, как Аннушка.
Вот он там, за рамой с белым холстом на ней, машет рукой, выглядывает время от времени, смотрит на нее, но будто бы и не на нее, а сквозь, как бабка Епифаниха, деревенская ворожея, когда изгоняет из болящего хворость. Жутко, и сердце замирает и тает, да только так вот сидела бы и сидела – веки вечные.
Поначалу-то она подумала об Александре: пьяница! Ан нет: вот уж сколько времени ходит она на сеансы, а не заметно, чтобы пил, хоть бы и без нее.
Да вот еще что смущает: ходит к нему, ходит, а он – ну ничегошеньки. Другой на его месте уж непременно попытался бы обнять и облапить, а он все сторонкой и сторонкой. И главное – ведь никого нету, никто не мешает. Оттого и ждешь, и жутко ожидание это, и всякий раз, как уходить, тоска какая-то на душе, хоть плачь. И стоит Аннушке добраться до своей подушки, она дает волю слезам, но и сама не знает, отчего плачет, какая тоска-печаль гложет ей душу.
Как-то, возвращаясь с работы, она встретила Варвару Ферапонтовну, и та затащила Аннушку к себе домой. На минутку. Потому что Аннушке в вечернюю школу идти. Варвара Ферапонтовна жила на третьем этаже, на самом верху старинного особняка, перестроенного в дом с коммунальными квартирами, жила в маленькой комнатке, в которой когда-то помещался гувернер. Из окна этой комнатки открывался вид на общежитие, в котором жила Аннушка.
Варвара Ферапонтовна напоила Аннушку чаем, выспросила, как там Саша, как подвигается портрет, что нового на работе.
– Александр Трофимович, слава богу, ничего, – говорила Аннушка нараспев. – Все пишут и пишут, все головы и головы, то так, то этак, а то замажут и опять пишут… – И добавила, потупив головку: – А я совсем непохожая. На фотокарточке похожая, а у него – нет. – Посмотрела на Варвару Ферапонтовну испуганно, вздохнула украдкой. – И некрасивая.
– Ах ты, глупенькая, – завздыхала и Варвара Ферапонтовна. – Еще будешь похожа, еще такую красавицу из тебя изобразит, что все ахнут. Ему главное сейчас – найти образ. Понимаешь? Вот ты "Евгения Онегина" Пушкина читала? Книжку, что я тебе давала?
– Это которая со стихами?
– Которая со стихами.
– Еще не успела, – покраснела Аннушка, потому что из тех книг, что дала ей Варвара Ферапонтовна, она прочитала только "Овода", и то лишь потому, что там такая любовь, такая любовь… А стихи – это так скучно, что глаза сами начинают слипаться… Вот если бы их петь, как песню, тогда совсем другое дело.
– А там, между прочим, и про тебя есть. – И Варвара Ферапонтовна прочла наизусть из письма Татьяны:
Поверьте: моего стыда
Вы не узнали б никогда,
Когда б надежду я имела
Хоть редко, хоть в неделю раз
В деревне нашей видеть вас,
Чтоб только слышать ваши речи,
Вам слово молвить, и потом
Все думать, думать об одном
И день и ночь до новой встречи.
– Ну, разве это не про тебя? – Варвара Ферапонтовна привлекла к себе Аннушку. – Глупенькая ты. Он хоть тебе нравится?
Аннушка вместо слов лишь сильнее уткнулась в плечо Варваре Ферапонтовне и заплакала.
– Ну, и чего ж ты плачешь? Впрочем, поплачь, поплачь: девичьи слезы – водица. Он, Сашка-то твой, хороший парень, и все вы хорошие, да только мозги у вас набекрень: кричите об одном, думаете о другом, желаете третьего и никак не можете все это соединить вместе. А чего бы проще… Но ты люби его, люби, он того стоит, Сашка-то твой. Иван Поликарпович говорил, что талант у него огромный, но без огранки, как камень-самородок, не расцвеченный знаниями, а те, что ему в голову вбили, не для художника, а для комиссара какого-нибудь. Ты его поддерживай. Он – как дитя малое: ему нянька нужна, чтоб протянул руку наугад и твое плечо нащупал. И еще – подруга. Очень ему это нужно, голубушка ты моя. И если ты почувствуешь, что и тебе это нужно, чтобы он мог всегда тебя под рукой иметь, тогда и выходи за него. Он-то еще сомневаться будет и раздумывать, а ты сомневаться не имеешь права. А главное – учись, всему учись: и жизнь понимать, и людей, и книги, и картины. Серая, необразованная, ты ему надоешь быстро, мешать станешь, будет он у других баб искать себе утешение и понимание. Так-то вот.
Варвара Ферапонтовна говорила тихо и все время поглаживала рукой Аннушкину голову, а смотрела куда-то вдаль, может, в свое прошлое, когда она сама поступила наоборот, совсем не так, как теперь советовала этой девчонке.
– Боюсь я его, – прошептала Аннушка, когда Варвара Ферапонтовна замолчала. – Как гляну на него, так сердце и падает.
– Что ж, такая наша бабья доля – преодолевать свой страх. Еще страхов-то этих впереди будет – ой-е-ей сколько.