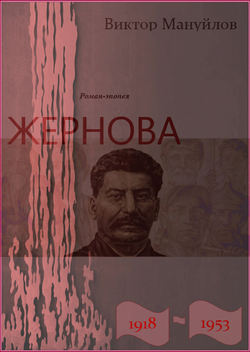Читать книгу Жернова. 1918–1953. Книга четвертая. Клетка - Виктор Мануйлов - Страница 1
Часть 13
Глава 1
ОглавлениеСнаружи ударили в рельс, и если бы люди не ждали этого сигнала, они бы его и не расслышали: настолько он был тих и лишен всяких полутонов, будто, продираясь по узкому штреку, ободрал бока об острые выступы и сосульки, осип от холода вечной мерзлоты, или там, снаружи, били не в звонкое железо, а кость о кость.
И все-таки звук сигнала об окончании работы достиг уха людей, люди разогнулись, выпустили из рук лопаты и кайла – не догрузив, не докопав, не вынув лопат из отвалов породы, словно руки их сразу же ослабели и потеряли способность к работе. Разогнувшись и освободившись от ненужного, люди потянулись к выходу из забоя.
Ближе всех к выходу из штрека на погрузке тачек работал бригадир, Плошкин Сидор Силыч, кряжистый мужик лет сорока пяти, из рязанских крестьян, получивший десять лет за то, что не пустил к себе на постой уполномоченного по хлебозаготовкам, а по обвинительному заключению Тройки – за попытку срыва этих самых хлебозаготовок и контрреволюционный заговор. Плошкин по своей должности обязан выходить из забоя последним, чтобы там никого из бригады не осталось, поэтому он, опершись на лопату обеими руками, пропускал мимо себя своих людей и пересчитывал их, шевеля губами.
Когда мимо по талой воде прошлепал последний, десятый зэк, Плошкин снял с обледенелого уступа светильник, сделанный из консервных банок, задул два из четырех рожков и поплелся к выходу. Он переставлял ноги в резиновых сапогах, не чувствуя отмороженных еще зимой подошв и делал в уме несложные арифметические подсчеты, на кого из членов бригады записать выполнение и перевыполнение дневного плана выработки, а на кого не писать ничего.
Бригада все равно план выполнить не в состоянии, в этом случае каждый получит штрафной паек – триста граммов хлеба, на двести граммов меньше нормы. Триста на четырнадцать – четыре кило двести. Если же разбросать отгруженные кубы породы на половину бригады, то у этой половины образуется перевыполнение, липовые ударники получат по килограмму хлеба, ибо – как считает нонешняя власть – кто хорошо работает, тот хорошо и ест, да плюс премиальных триста – в сумме почти двенадцать килограммов; стало быть, каждому достанется почти по девятьсот граммов. За ту же самую работу.
Мучения для Плошкина заключались в том, чтобы не обмишуриться в расчетах: на восемь или девять человек записывать план бригады, и не вызвать тем самым гнев десятника и прораба, которые могут всю его арифметику повернуть по-своему.
Разумеется, и десятник и прораб знают, как создаются ударники, но с них спрашивают за план целиком, с них спрашивают тонны и кубометры, сами они тоже требуют с бригадиров тонны и кубометры, однако понимают, что если зэка не кормить, то не получишь ничего, поэтому грамотно сделанную подтасовку примут, а за неграмотную могут дать в рожу. Только бы не обмишуриться.
Ссохшийся от недоедания, усталости и авитаминоза мозг Плошкина с трудом переваривал количество вывезенных на гора тачек, переводя их в кубометры, а кубометры деля на членов бригады. Вроде и опыт у него в этом деле большой, а вот поди ж ты, каждый раз будто впервой приходится считать и прикидывать, чтобы вышло похоже на правду.
Плошкин еще не решил свою мудреную задачу, хотя до выхода оставалось всего метров сорок-пятьдесят, когда впереди раздался короткий и отчаянный вскрик, вслед за ним послышался как бы тяжелый вздох огромного чудища, земля судорожно дрогнула под ногами, в лицо пахнуло промозглым холодом, с рожка светильников сорвало трепетные язычки пламени, и будто наступил конец света – все погрузилось в плотный, давящий мрак.
Плошкин замер на мгновение, с трудом отвлекаясь от своих расчетов, затем, процедив сквозь сознание крики людей, шедших впереди, связав их с тяжелым вздохом, судорожной дрожью земли и погасшим светильником, непроизвольно попятился, поскользнулся на осклизлом трапе, упал, ударился о камни затылком, дернулся было, чтобы вскочить на ноги, но вдруг ощутил такое безразличие к самому себе, к жизни и смерти, что с каким-то незнакомым блаженством вытянулся на холодных и мокрых камнях и стал ждать, что вот сейчас рухнут своды штрека и кончатся для него все мучения: не надо будет никуда идти, дрожать от холода, терпеть боль в натруженном за четырнадцать часов работы теле, трястись над каждой крошкой хлеба, бояться охранников, блатных, прораба – всех, кто сильнее тебя физически или у кого больше власти.
Плошкин лежал на спине и читал отходную: "Боже святый, великий и благий, приими раба своего во царствие твое и прости ему прегрешения его, вольныя и невольныя, как прощал ты врагам своим, и хулителям, и…"
Плошкин сбился, потому что впереди снова закричали, и он услыхал, что зовут его, Плошкина, бригадира, и громче всех – Пакус, интеллигент, доходяга, жид, из бывших чекистов-гэпэушников, настоящий враг народа, то есть троцкист и предатель.
Перекрестившись еще раз, Плошкин медленно поднялся на ноги, с сожалением пошлепал себя ладонью по промокшим, пока он лежал и ждал смерти, ватным штанам и стал шарить меж кусками породы в поисках выскочившего из рук при падении светильника.
Светильник не находился.
– Чего орете? – спросил Плошкин хриплым простуженным голосом, медленно разгибаясь, будто ничего и не случилось. – Чуть что, так сразу: бригади-ир! Светильник есть у кого? А то я свой найти не могу…
– Есть, – ответил из тьмы голос еще одного антеллигента, как их презрительно называл Плошкин, профессора из Казани Каменского. – Только у меня, Сидор Силыч, спичек нету.
У Плошкина спички были. Он сунул руку во внутренний карман телогрейки, вытащил сверточек вощеной бумаги, а из него, – осторожно, чтобы не дай бог уронить, – выпростал коробок, из коробка спичку, зажег, поднял руку с горящей спичкой над головой. Слабый огонек выхватил из тьмы тени людей, и тени эти стали медленно надвигаться на Плошкина, хлюпая по воде и гремя камнями.
Спичка погасла.
– Чего все претесь-то? – зарычал Плошкин. – Ты, прохвессор, топай сюды один. Да поосторожней, гляди!
Плошкин хотел выругаться, но воздержался: хотя он был неосвобожденным бригадиром и вкалывал наравне со всеми, все же нет-нет да и пускал в ход кулаки, потому что эти антеллигенты, акромя кулаков, ничего другого понимать не хотят и теперь вполне могут отыграться на Плошкине за старые обиды: десять-то супротив одного – шутка ли?
– Где вы, Сидор Силыч? – спросил Каменский, перестав хлюпать ногами по воде совсем близко от бригадира.
– Здеся я, – ответил Плошкин, уловив в голосе Каменского только страх и растерянность, и, протянув руку, нащупал ватник бывшего профессора, мокрый и осклизлый от грязи: профессор, видать, тоже упал, но, гляди-кось, светильника из рук не выпустил.
Через минуту горела одна из четырех трубочек, торчащих из банки крестом на четыре стороны. Однако прежде чем разбираться в случившемся, Плошкин отыскал свой светильник, встряхнул его: там осталось на донышке, керосин почти весь вытек. Он вздохнул сокрушенно, передал свой светильник Каменскому, спросил:
– Ну, чего там? – хотя мог бы и не спрашивать: и так все было ясно.
– Обвал, – ответил бывший профессор. – Отрезало нас.
Плошкин поднял светильник над головой.
Перед ним стояло шесть человек. Да он – седьмой… В голове Плошкина на этот раз почти сразу же сложились новые расчеты: если осталось семеро, да тачкогонов двое-трое, то на нос выйдет почти по полтора кило хлеба. А еще суп, а еще каша. И завтра утром они тоже получат за всю бригаду, и в обед, потому что пока мертвых снимут с довольствия, пока бумаги, то да се. Только вечером…
Но это в том случае, если пятеро, что шли впереди, лежат под обвалом, и если оставшиеся в живых сегодня же выберутся наружу.
Желудок Плошкина откликнулся на эти расчеты сосущим спазмом. Плошкин проглотил слюну и, держа светильник над головой и опасливо поглядывая на потолок штрека, с которого там и сям капала вода, медленно двинулся вперед.
Люди расступились, давая ему дорогу: он лучше знал землю, чем они, городские, он был практичнее, и ни высшая математика, ни философия, ни, тем более, умение писать стихи, никакая другая наука и никакое другое знание здесь помочь не могли, они были пустым местом по сравнению с теми знаниями и умениями, которыми обладал вчерашний крестьянин и сегодняшний зэк с почти трехгодичным стажем.
Плошкин добрел до обвала, зажег остальные рожки, опасливо огляделся.
Штрек был закупорен наглухо, черная стена породы с блестками льда, в которых отражались огоньки светильника, смотрела на Плошкина множеством холодных и голодных глаз. Журчала талая вода, слышался шорох и сухой, отчетливый стук падающих камней и мерзлой земли. В любое мгновение свод мог рухнуть и в любом другом месте: и здесь, где стоял Плошкин, и там, где в тесную кучу сбились оставшиеся члены его бригады.
Сидор Силыч Плошкин встречал в заключении свою третью весну. Две предыдущие пришлись на прорубку просек в тайге, на отсыпку щебенки в полотно дороги и плотину для электростанции; эта весна выпала на работу в золотом руднике, некогда прорытом старателями в подошве сопки, но почему-то заброшенном. Земля здесь скована вечной мерзлотой, но не повсеместно, как дальше на север, а отдельными – по выражению знающих людей – линзами.
Повадок вечной мерзлоты Плошкин не знал, зато у него был опыт сезонных работ на шахтах Донецкого угольного бассейна, и этот опыт подсказывал, что если не случится чуда, они вряд ли выберутся на поверхность живыми. И дело не только в толщине завала, в желании или нежелании лагерного начальства вызволить из плена его бригаду. Что завал будут разбирать, сомнения не возникало, потому что рудник золото давал, но как долго это будут делать – вот в чем вопрос. А они здесь, в этой стуже, да еще без еды, протянут разве что пару-тройку дней – не больше.
Отвалился кусок потолка, плюхнулся в трех шагах от Плошкина в лужу, обдав его брызгами. Еще нахальнее зажурчала вода.
Бригадир отступил в сторону, за что-то зацепился, посветил: из завала торчали ноги, обмотанные грязным тряпьем, а по тряпью – ржавой проволокой. Из-под тряпья блеснул глянец добротных резиновых сапог.
Это были лучшие сапоги в их бригаде – а может, и во всем лагере, – и принадлежали они Гусеву, старику-законнику из Ленинграда. Тоже троцкисту. Сапоги ему прислали с воли нынешней зимой, они имели теплую войлочную подкладку, но чтобы их не отобрали блатные, Гусев обматывал сапоги тряпьем и проволокой: маскировал их добротность.
Плошкин поставил светильник на камень и стал разувать Гусева. Выживут они сами или нет, а все лучше в сухой и теплой обувке. Да и разувать надо сейчас, пока тело мертвеца не закаменело от холода. Стащив сапоги и шерстяные носки толстой домашней вязки, Плошкин потрогал подошвы старика – они были еще теплыми. Однако бригадиру и в голову не пришло откапывать Гусева: и маяты много, и вряд ли от этого будет прок.
Выбрав место посуше, Плошкин, нога об ногу, стянул свой сапог и стал переобуваться. О Гусеве он уже не думал; его смерть и, как можно предположить, еще четверых, не произвела на Плошкина почти никакого впечатления, разве что легкую зависть: мучился человек и наконец отмучился.
Сверху капало, шуршали падающие куски мерзлоты. Отвалился большой кусок и скатился по завалу к самым ногам Плошкина. Послышалось потрескивание и будто покряхтывание. Плошкин поднял голову и увидел, что потолок над головой вздулся этаким нарывом, и, подхватив сапоги, поспешно отступил в глубь штрека.
И вовремя: земля снова тяжело вздохнула и вздрогнула от нового обвала. Правда, этот обвал был не велик – он не дотягивал до потолка, зато вместе с породой выплеснулось огромное количество воды, и Плошкин подумал, что мерзлота не такая уж и вечная, как о ней говорят, а там, где в нее проник человек, она начинает ему мстить.
Закончил переобувание Плошкин уже в окружении своей бригады. Никто не произнес ни слова. Только смотрели, как он возится с носками и портянками, безуспешно пытаясь всунуть потолстевшие ноги в чужие сапоги. Так и не сумев этого сделать, Плошкин с сожалением отложил портянки в сторону, оставив лишь носки, обулся, оглядел окружающих его людей – не столько их самих, сколько их ноги, – ткнул пальцем в опорки Пакуса, приказал:
– Переобувайся.
Пакус тут же поспешно стал разматывать тряпье на своих ногах и стаскивать резиновые опорки. У Пакуса тоже недавно были неплохие сапоги, но их отняли блатные, дав ему взамен почти ни на что не годную рвань.
Пока Пакус переобувался и все так же молча следили за ним, как минуту назад за бригадиром, Плошкин соображал, что бы еще сделать. Его взгляд остановился на слабом огоньке светильника, и в голову пришла мысль, что надо бы развести костер: и свет будет, и тепло. А на дрова использовать трап. Правда, он сырой, но для начала можно на растопку пустить ручки лопат и кайл, а там уж и доски загорятся.
Конечно, за трап по головке не погладят, и за лопаты тоже, но… но это в том случае, если они выберутся, а пока без тепла и света никак нельзя.
И Плошкин отдал необходимые приказания.