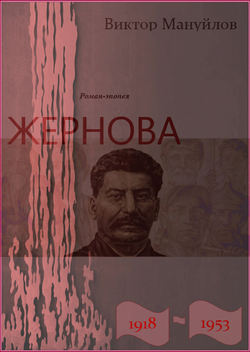Читать книгу Жернова. 1918–1953. Книга четвертая. Клетка - Виктор Мануйлов - Страница 10
Часть 13
Глава 10
ОглавлениеПакус поначалу шел быстро, но вскоре усталость начала судорогой сводить ноги. Он садился, мял икры, бил кулаками по ляжкам, вскакивал и снова шел, опираясь о палку, припасенную еще с вечера.
Было свежо, но уже не морозно, как в первые ночи: и сюда, наверх, в сопки, поднялась весна, и теперь не только днем, но и ночью температура, судя по всему, не опускалась ниже нуля градусов. Теперь не иней, а роса густо покрывала мхи, сухую траву и ветки кустарников, которые выбросили первые, еще совсем мелкие, бледно-зеленые листочки. Роса иногда густым и холодным дождем обрушивалась на Пакуса, если он тревожил ветки елей или пихт, телогрейка и штаны его намокли, идти становилось все тяжелее, хотя тропа шла вниз и вниз, часто довольно круто падая в черноту оврагов, где таинственно булькала вода, а потом выкарабкиваясь наверх по осклизлым камням.
Иногда Пакусу казалось, что он заблудился, что сюда, на заимку, они шли как-то не так, но он знал, что не сама дорога врезалась ему в память, когда они шли сюда, подгоняемые бригадиром, а желание лечь и умереть, дорога же здесь одна – об этом говорил сам Плошкин, и у Пакуса не было оснований не верить этому.
Лев Борисович спешил. По его расчетам вроде бы никто не должен проснуться в эти предутренние часы, – он две последние ночи почти не спал, высчитывая время, когда сон наиболее крепко держит в своих объятиях его товарищей по несчастью, – однако нельзя исключать и какой-нибудь случайности. Но даже если кто-то проснется сразу же вслед за ним, то еще нужно открыть дверь, сообразить, что к чему, а уж потом пуститься в погоню.
Только вряд ли они решатся именно на погоню: Плошкин не может знать, когда ушел Пакус, не может рассчитывать, что сумеет догнать его раньше, чем тот достигнет зоны. Скорее всего, они, едва обнаружат его побег, сами кинутся бежать, не теряя ни минуты даром. Сам бы Пакус только так и поступил.
Он с трудом выбрался наверх из очередного оврага и сел на замшелый ствол поваленной ели. Он дышал со всхлипом, хватая воздух широко раскрытым беззубым ртом, и смотрел в ту сторону, откуда могла появиться погоня. Но там, среди мрачных пихт и едва опушившихся лиственниц, лежала густая и неподвижная темнота. Из этой темноты может выскочить Плошкин со своим прихвостнем Дедыко, с топорами, задыхающиеся от бега…
Как они – сразу набросятся на него, или начнут кричать, обвинять в предательстве? А ведь он не предавал, потому что никогда не стоял с ними заодно, несмотря на одинаковость лагерного положения. Но в лагерь-то их привели разные дорожки…
И Лев Борисович вдруг почувствовал себя евреем, то есть человеком, совершенно чужим для всех остальных людей, презираемым и ненавидимым, и в нем самом со дна души вспенились презрение и ненависть ко всему миру, которые вдалбливались ему старшими с раннего детства. Пакус сплюнул по-зэковски углом рта и гордо вскинул голову.
Увы, получилось не гордо, а скорее жалко: чахотка, тяжелая работа, холод и голод скрючили его фигуру, некогда прямую и гордую.
"Ничего, – думал Пакус, шагая по тропе и внимательно вглядываясь себе под ноги. – Ничего, они еще пожалеют. Они не знают, на что способен отчаявшийся… да, отчаявшийся еврей! Еврей, доведенный нежеланием понимать… доведенный до такого состояния, когда ему не из чего выбирать, когда ему оставляют только одну дорогу. О-о! Они еще узнают! И этот садист Плошкин, и этот Каменский – тоже садист, но как бы с другой, то есть идеологической стороны… так что они лишь дополняют друг друга, создавая вполне завершенное целое… Все они дураки и кретины, провонявшие националистической гнилью! Жалкие пигмеи!.. Что они могут понимать? Ничего! Моисей, Наполеон, Гитлер, Сталин, Ницше… Да, это жажда власти! Но мы, начав строить новое общество, не учли, что пробудим ее у всех, кто раньше этой жажды не знал, кто из поколения в поколение влачил цепи раба. Мы думали, что в новом обществе люди станут вести себя по-новому. Но люди оказались скотами… Ленин прав: варварством против варварства! Каленым железом! Через кровь! Кровь цементирует. Все государства построены на крови, все общественные системы. И социалистическая – не может и не должна стать исключением…"
Пакус шел, спотыкаясь и падая, иногда останавливался, пытаясь уловить ускользающую мысль, но схватывал не мысль, а слово, произнесенное то Плошкиным, то Каменским, то еще кем-то давным-давно, так что даже образ этого человека стерся в его памяти, но слово осталось, слово это вспенивало в его душе целый рой чувств, которые всегда приходилось прятать от других, потому что это были чувства еврея, зачастую непонятные другим, чувства, которые попытался объяснить и обосновать Зигмунд Фрейд, маскируя их под всеобщность.
Чем ближе Пакус подходил к лагерю или – точнее, – чем дальше уходил от заимки, тем непослушнее становились ноги. И дело даже не столько в усталости, как в том, что все его существо противилось приближающейся неизбежности возвращения в ту жизнь, которую и жизнью-то назвать можно с большой натяжкой.
Конечно, побег ничего не давал, то есть не вел его, как и всех остальных, к свободе. Пакус слишком хорошо знал отлаженную систему отлова беглецов на самых различных стадиях побега: как бы далеко они ни ушли, рано или поздно попадутся в расставленные органами НКВД-ОГПУ сети, а НКВД-ОГПУ – это не царская охранка, растерявшая за последние десятилетия чувство ответственности за существующий режим власти, это молодой, энергичный организм, постоянно обновляющийся и очищающийся на основе новых идей, целей и методов. Ему еще не скоро грозит разложение, постигшее царскую охранку, хотя первые признаки уже появились, но появились они на фоне политической борьбы, и когда эта борьба завершится победой правды над неправдой, идеи над безыдейностью, разложение прекратится.
Пакус по привычке поставил себя на место Плошкина. У него, лишь одна призрачная возможность избежать расставленных сетей – уход за границу. Но для этого надо знать каналы, проходы – много чего надо знать и уметь, а ничего этого у него нет. Конечно, Каменский кое-что знает из адвокатской практики. Но кое-что – почти ничего. Если бы с ними бежал кто-то из уголовников – со связями в преступном мире, с их пресловутой взаимопомощью и взаимовыручкой, – тогда шансы были бы более весомыми, но… но уголовники – это совсем другой мир, враждебный не только Пакусу, но и Плошкину, и всем остальным, даже грузину, враждебный как на воле, так и в неволе.
И как много людей стремятся к свободе и как разно они ее понимают! И как мало ценят ее, когда она еще не отнята!
Нет, побег ничего не решает. Он принципиально ничего не может решить. И хотя Пакус почти не верил, что его бог знает какое по счету прошение о пересмотре дела вырвет его из лагеря и вернет ему свободу, все-таки в этом и только в этом сохранялась пусть маленькая, но надежда. Тем более что ему стало известно – еще когда шло следствие, – что от него, как от врага народа, отказались жена и дочь, следовательно, у него нет дома; знал он, что некоторые его друзья и сослуживцы по ВЧК и ОГПУ тоже арестованы, что кое-кто из них осужден на длительные сроки, и об этом даже писали газеты, следовательно, у него нет на воле никакого пристанища, ни малейшей зацепочки.
Подозревал Пакус, что даже само напоминание о себе прошениями может усугубить его положение, как это уже случалось с другими. Но он с упорством, которое всегда отличало его от многих товарищей по партии, продолжал гнуть в одну сторону. Любое радикальное решение лучше положения, в котором он обретается уже без малого четыре года, – то есть с тех самых пор, как Троцкий был выслан за границу, а те, кто примыкал к нему, либо подозревался в этом, отстранены от дел, исключены из партии, иные арестованы и осуждены. Знал потому, что пока не арестовали самого, арестовывал других, вел дознания и передавал дела в так называемое Особое совещание.
Он не винил себя за это, как не винил других за свою судьбу: видно, была какая-то роковая закономерность в том, что партии и органам ВЧК-ОГПУ-НКВД в преддверии каких-то грандиозных событий мирового масштаба то и дело приходилось лихорадочно очищать молодое и неокрепшее общество от чужеродных элементов, тем самым цементируя его, превращая в монолит, способный выдержать самые суровые испытания временем. Все нарождавшиеся общественные системы и государства полны подобными примерами. Тот же Моисей: если бы он не истреблял непокорных и сомневающихся соплеменников, то никогда не довел бы израильтян до земли, будто бы обещанной богом его народу. Не мудрено, что под метлу любого глобального очищения попадают люди, вполне лояльные новой – в том числе и советской – власти и даже искренне преданные идее, каким был и остается он сам, Лев Борисович Пакус. Зато все каменские и плошкины уже не могут мешать поступательному движению пролетарского государства, со всех сторон окруженного сильными и коварными врагами.
Знал Пакус, что среди многих евреев, в силу сложившихся обстоятельств примкнувших к большевикам, но никогда не разделявших их мировоззрения, еще не угасла надежда на возвращение партии к социал-демократическим доктринам, к либерализации режима власти и, следовательно, к безграничным для себя возможностям в этой полудикой стране. Знал он, что многие из его соплеменников и нынешних товарищей по партии были связаны с мировыми еврейскими финансовыми кругами, имевшими свои расчеты на преображенную Россию, что эти круги активно финансировали как меньшевизм, так и большевизм, и хотя сам выбрал последний по убеждению и продолжал держаться его из принципа, в душе давно уже сочувствовал оппозиции сталинскому режиму и частенько, получая информацию о ее деятельности, закрывал на эту деятельность глаза, не докладывал наверх, если это ничем не грозило ему лично.
Догадывался он, что арестом своим обязан тем еврейским кругам, которые пытаются укрепить пошатнувшуюся внутриеврейскую солидарность, противопоставить ее диктату Сталина и его приспешников, избавиться от тех своих соплеменников, кто слишком далеко отошел от идеи Великого Израиля. Не исключено, что Сталин ловко использует внутриеврейские противоречия для укрепления своей личной власти. Но, судя по всему, в этой стране и нельзя без диктатуры личности, без железной власти вождя. Да и что такое диктатура пролетариата, как не диктатура его вождей? По-другому она осуществляться не может.
Но все это лишь досадные мелочи в сравнении с той великой мечтой о братстве народов земли, которая наперекор всему еще теплилась в сердце Пакуса. Только это осознание, эта самовнушенность помогали ему жить, не помнить прошлые обиды и сомнения, закрывать глаза на противоречивые, досадные реалии и на что-то надеяться. Прошлое многолико и выступает в борьбе с новым под различными личинами. И не только в общественном сознании, но и в сознании каждого человека. В том числе и в нем, Льве Пакусе. Он всегда боролся с прошлым, где бы и как бы оно ни проявлялось. И в этом смысле совесть его чиста.
Чем дальше Пакус уходил от заимки, тем медленнее шел. Собственно, спешить уже не имело смысла. Придет он в зону на час раньше или позже, ничего от этого не изменится. Позже – оно даже лучше. Пусть произойдет развод на работы, пусть все успокоится. Где-то часов в восемь-девять начальство, только что позавтракав, пребывает в самом умиротворенном расположении духа, – тут-то он и заявится.
Разумеется, они полагают, что почти вся бригада Плошкина – за исключением нескольких тачкогонов – погибла под обвалом либо, отрезанная им, от холода и голода в глубине забоя. Разумеется, они еще не докопались до истины, иначе бы непременно явились на заимку. Конечно, он расскажет им все. В конце концов, эти люди, облеченные в лагере неограниченной властью над осужденными, ближе ему, исключенному из партии коммунисту Пакусу, чем кулак Плошкин с профессором-кадетом. Идейно и духовно, и как угодно.
Это ничего, что обстоятельства развели его с другими товарищами по партии по разные стороны колючей проволоки. Жизнь парадоксальна, и тысячелетия цивилизации мало что изменили во взаимоотношениях людей. Революции – и есть попытки изменить будто бы неизменное. Однако сразу такое не делается. Увы, это так. К тому же Россия – не самый лучший, как оказалось, полигон для отработки мировой модели нового человеческого общежития. Но лавина сдвинулась – противиться ее движению глупо. Разумнее – движение это регулировать.
К сожалению, он и многие другие попали в какой-то боковой поток, и одни были раздавлены, другие отброшены в сторону. Видимо, это закономерно. Так, немногие израильтяне, вышедшие из Египта, сумели достичь земли обетованной: одни умерли, не вынеся тягот пути, другие погибли в битвах, третьи пали от рук своих же. История действительно повторяется… Только там был единый народ, спаянный единой целью, проникнутый идеей исключительности, а здесь… Пока у рабочего класса России выработается это чувство – у всего класса, а не у отдельных его сознательных представителей, – пройдут годы и годы, может, не менее сорока лет, как у израильтян… Но способен ли Сталин – в отличие от Моисея – воспитать чувство исключительности у российского рабочего? Вряд ли… Однако Троцкий был способен еще менее. Не говоря о Зиновьеве с Каменевым…
Тогда – кто же?
Пакус остановился, увидев еще одно лежащее поперек тропы дерево: ему показалось, что это то же самое дерево, на котором он сидел полчаса назад. Неужели он заблудился и ходит по кругу? Он приблизился к дереву: нет, кажется, это совсем другое дерево, то вроде было потоньше и как бы подряхлее. Впрочем, это не имеет значения.
Он выбрал местечко между ветвями, сел, расслабился.
Над дальними сопками разгоралась заря. Было так тихо, что слышался ток собственной крови и биение сердца. Сейчас, наверное, часа четыре. Скоро в зоне подъем. Вот изумятся там, когда он вернется! Можно сказать, с того света!.. А на заимке, пожалуй, еще спят и не ведают о своей судьбе.
Пакус машинально полез за пазуху, где, завернутый в тряпицу, покоился большой кусок горбуши, отщипнул кусочек и принялся лениво жевать. Привалившись спиной к толстому суку, он вскоре погрузился в полудрему. И впервые за последние год или два ему стало грезиться что-то, что не вращалось исключительно вокруг еды, хотя еда присутствовала и здесь.
Раньше во сне он видел хлеб, хлеб и хлеб. Иногда что-то еще, но тоже – еда. И еду эту он получал во сне всегда каким-то странным образом: то воровал ее, то клянчил у разных людей, и даже у Ленина, но украденную еду отнимали, выклянченная оказывалась не едой, а какой-то несъедобной дрянью. Теперь он сыт. Впрочем, кусочек хлеба не помешал бы…
Пригрезилось, что он, Пакус, сидит в комнате следователя и пьет с ним чай с белым хлебом. И даже намазывает на хлеб масло. Во сне Пакус не удивился этому обстоятельству: он уже знал откуда-то, что его возвращение в зону по достоинству оценено не только лагерным начальством, но и более высоким, что его переводят работать на хлебопекарню, что в Москву послано прошение о пересмотре его дела в связи с новыми обстоятельствами и что будто бы это прошение уже рассмотрено и удовлетворено. Каким образом все произошло так быстро, ни сам Пакус, ни следователь не знают, но почему-то оба уверены, что это так и есть, что надо лишь маленько обождать, и как только бумаги придут, так сразу же его и отпустят.
И чудится ему, что следователь обращается к нему, к Пакусу, не "гражданин Пакус", а "товарищ Пакус", и даже иногда по имени-отчеству. И на душе от этого так тепло, так славно, что хочется плакать…
Пакус очнулся от холода: сырая одежда сковала его леденящим панцирем, без движения он совсем замерз. Он вспомнил свой сон, усмехнулся и подумал, что реально его ждет нечто совершенно противоположное: если его не изолируют от остальных заключенных или не переведут в другой лагерь, то его довольно скоро настигнет удар ножа или удавка где-нибудь в сортире: зэки, особенно блатные, не терпят в своей среде доносчиков, предателей, как не терпели их когда-то в партийной среде. Впрочем, все эти понятия весьма относительны.
Одна надежда на то, что лагерный следователь будто бы не глупый человек, и его удастся убедить, что жизнь Пакуса еще пригодится советской власти.
Между тем небо посветлело настолько, что стали различимы еще крошечные пихтовые иголки, мох на камнях, веточки какого-то кустарника.
Пакус тяжело поднялся на затекших ногах. Преодолевая себя, сделал несколько движений руками, присел раз и другой, оглянулся: вершины противоположных сопок будто облиты червонным золотом, а внизу, в овраге, все еще таится пугающая чернота ночи. И все так же тихо кругом и пустынно.
– Надо идти, – сказал себе Лев Борисович, сказал вслух и удивился звуку своего хриплого, каркающего голоса. Он прокашлялся и заговорил снова: – Да-да, надо идти, двигаться. – Голос несколько очистился, стал звонче, и Пакус продолжал уже с удовольствием, пробуя свой голос и так, и этак: – Вот дойду до болота, там можно будет отдохнуть, обсушиться. Даже поспать. Движение… Жизнь – это движение. Да-да-да! – И пропел, стараясь не шепелявить: – "Движенье – счастие мое, движенье…"