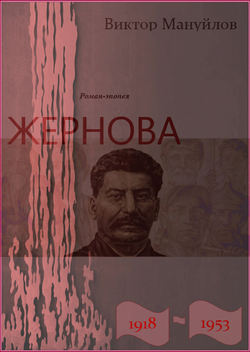Читать книгу Жернова. 1918–1953. Книга четвертая. Клетка - Виктор Мануйлов - Страница 8
Часть 13
Глава 8
ОглавлениеЕдва за Плошкиным, Ерофеевым и Дедыко закрылась дверь избушки, Каменский, Пакус и Гоглидзе, не глядя друг на друга и не сговариваясь, что кому делать, принялись выполнять бригадирские распоряжения. В неволе они привыкли к повиновению точно так же, как привыкли при всяком удобном случае отлынивать от любой работы, если над ними не стоят с палкой. Однако сегодня все трое старались изо всех сил.
Они затопили каменку дровами, предусмотрительно припасенными еще в прошлом году, наносили воды в бочку и в ведра, сгребли в кучу весь мусор и побросали в огонь, потому что Плошкин строго-настрого запретил им выбрасывать из избы даже рыбью чешую и кости, чтоб не оставлять никаких следов; до белизны выскребли стол и лавки, помыли пол и почистили закопченные оконца.
Потом спустились к ручью, прошли по нему метров сто, свернули в небольшой распадок и там наломали веток багульника и пихты – для кипячения в воде к предстоящей нынешним вечером бане: Плошкин заверил, что если помыться таким отваром, то враз исчезнут все болячки и чирьи.
То Пакус, то Каменский, то Гоглидзе время от времени отходили из приличия к ручью и присаживались над бегущей водой по крайней нужде: после жирной рыбы всех одолел понос. Но Плошкин сказал, что это временно, дня на два, на три, а потом, когда попривыкнут к пище, все наладится, и они безоговорочно этому поверили, потому что все, что они делали по приказанию своего бригадира, не только подтверждало его над ними неограниченную власть, но было наполнено целесообразностью, над очевидностью которой не приходилось даже задумываться. Тем более что тюрьмы и лагеря отучили их задумываться над чем бы то ни было: мыслительный процесс потерял свое значение, к тому же требовал сил. Наконец, они разучились желать и чувствовать: все желания и чувства подавило одно желание – есть, одно чувство – чувство голода и усталости.
Сейчас пищи было много. Каждый мог взять со стола кусок лососины, мог выпить кружку жирного и пахучего бульона, и они пользовались этой возможностью. Но не потому, что испытывали голод, а потому, что была пища, которую нельзя не есть. В лагере они всегда съедали все, что им доставалось, не оставляя на потом, потому что пищу могли украсть или отнять, потому что, наконец, можно внезапно умереть, так и не съев свой последний кусок.
И Каменский, и Пакус, и Гоглидзе двигались медленно, часто присаживаясь и отдыхая, иногда ложась, но все-таки двигались и двигались, делая то одно, то другое, скорее, не столько из боязни наказания – какое мог придумать им наказание бригадир, если бы они что-то не успели сделать? – а из чувства неловкости перед ушедшими на промысел, неловкости, которая была из того мира, где жили родные и близкие им люди, где они сами были свободны, где было много еды и красивых женщин, где не нужно было работать до изнеможения, – неловкости, ненужной и вредной в их недавней жизни.
За почти целый день каждый из них произнес едва ли десяток слов. Тут, во-первых, властвовала над ними неприязнь друг к другу, существовавшая бог знает с каких времен и усиленная утренним спором; во-вторых, говорить вроде было некогда.
Между тем каждый из них затевал иногда внутренний спор со своим воображаемым противником, но, произнеся мысленно несколько слов, тут же терял нить рассуждения и отвлекался на что-то вещественное: на веник ли, на топор, на дрова или рыбу. Да мало ли на что! Их просто поглотила мелочная насущность, она казалась им столь важной, что все усилия их истощенного мозга были направлены на нее – на исполнение этой насущности, и когда что-то удавалось завершить, они испытывали удовлетворение, давно ими позабытое.
И все же тревога держалась в них, сковывала их, утомляла больше самой тяжелой работы, искала выхода. Меньше эта тревога обнаруживалась у Гоглидзе, больше – у Каменского, и совсем не была видна на ничего не выражающем лобастом лице Пакуса.
Когда то немногое, что велел бригадир, было сделано, Каменский с Пакусом сели за стол, выскобленный до бела; к ним на этот раз, что-то поборов в себе, присоединился и Гоглидзе. Они лениво пожевали рыбы, глотнули бульона. Все трое чувствовали себя разбитыми, измочаленными, все ожидали какого-то резкого поворота в том положении, в котором они очутились, хотя и так – куда уж резче? – и каждый подозревал другого в неискренности и тайных помыслах.
После еды Пакус прилег на лавку, на которой спал бригадир, Каменский последовал его примеру, заняв свою лавку, молча освобожденную грузином, перебравшимся к печке.
Бывший адвокат, бывший профессор права Казанского университета, оказавшийся в этих краях по милости Григория Евсеевича Зиновьева, поворочался немного, покряхтел, повздыхал, сел. Для него говорение было профессией, он истосковался по слову, по умному собеседнику, но главное – положение у них было таково, что без обсуждения этого положения дальше существовать становилось просто невыносимо. Утренний разговор, грубо прерванный Плошкиным на самом, можно сказать, интересном месте, только разбередил профессорскую душу, ни капельки ее не удовлетворив.
Конечно, Пакус с грузином – не те собеседники, которых жаждала профессорская душа, но все же лучше, чем Плошкин и мальчишки, вообще ничего не смыслящие в умном и аргументированном слове.
– Вы не находите… э-э… – начал Каменский, ни к кому не обращаясь, – что мы с вами очутились в весьма двусмысленном положении?
Произнеся эту фразу, он вгляделся в темный силуэт Пакуса, неподвижно лежащего на лавке по другую сторону стола.
Бывший чекист даже не шевельнулся.
Гоглидзе помешал в каменке головни, в ее раскаленном чреве вспыхнуло пламя, оно озарило низкую избушку красноватым светом, тени заметались по черным бревнам потолка и стен, из полумрака выступило востроносое лицо Пакуса, лежащего на спине с закрытыми глазами и плотно сжатым тонкогубым впалым ртом, и Варламу Александровичу показалось, что Пакус умер, что Плошкин с мальчишками не вернется, что на всем свете не осталось ни единой живой души.
– Лев Борисыч! – вскрикнул Каменский, перегибаясь через стол. – Ле-ев Борисы-ыч!?
Пакус открыл глаза, повернул слегка голову в сторону Каменского, произнес тихо:
– Ну чего вы кричите, профессор?
– Уфф! Слава богу! – откинулся к стене Каменский, истово перекрестившись. – А то мне, знаете ли, показалось… Ах ты, господи! – сокрушенно покачал он плешивой головой и заговорил совсем не о том, о чем собирался: – Я вот уже скоро пять лет мыкаюсь, многие из тех, кто сел вместе со мною, и, заметьте, моложе меня и крепче, давно предстали пред Всевышним, а я все скриплю, все цепляюсь за жизнь, все надеюсь, что вернется прошлое. А зачем, спрашивается, цепляюсь? И было ли оно – прошлое-то? Наконец, возможна ли жизнь вообще, чтобы ни в лагере, ни в тюрьме, ни на пересылке? И разве жизнь тех, кто на воле, не является жизнью за той же колючей проволокой… только с обратной стороны? Ведь существо от этого не меняется – с какой стороны…
Варлам Александрович помолчал, ожидая возражений, но никто не возразил, ни словом, ни движением не выразил своего отношения к сказанному. И бывший адвокат продолжил развивать мысль, ему самому еще далеко не ясную:
– Скажем, в девятьсот десятом – разве мог я тогда даже в дурном сне увидеть самого себя сегодняшнего? Бывало, закончится процесс, твой подопечный осужден на каторжные работы, а ты со спокойной совестью садишься на извозчика и едешь в "Славянский базар"… Смирновская, балычок, расстегаи, архиерейская ушица… Сахалин казался выдуманным Чеховым, каторга, тюрьма и прочие вещи – представлялись чем-то потусторонним, и осужденные уходили в другой мир, который как бы и не существовал для меня самого. Революция пятого года казалась тогда недоразумением, детской шалостью, непозволительной в зрелые годы. Думалось, что, пошалив, отдав дань исторической моде, мы повзрослели, что Россия выходит на новый путь, что ей предстоит великое будущее… А тут еще Столыпин с его устремленностью к переменам вселил кое-какие надежды… Куда все подевалось? Бож-же ж ты мой, бож-же ж ты мой!
– Почему вы решили, что России, то есть Советскому Союзу, не предстоит великое будущее? – прошамкал Пакус беззубым ртом. – У нее уже есть великое настоящее, а будущее предстоит еще более величественное.
– Да нам-то до этого что! – всплеснул руками Каменский. – Да и врете вы, батенька мой! Все врете – и себе, и другим! Я так думаю, что как только вы, евреи, перестанете врать, так потеряете опору в своей жизни, вам нечем станет существовать. Величие России! Да как вы, предки которого были гражданами разных стран, из поколения в поколение пытавшиеся приспособиться к чужим обычаям и надеть на себя личину очередной чужой нации, и только для того, чтобы разложить эту нацию изнутри и подчинить ее себе, прожившие большую часть жизни на задворках Европы, как можете вы судить о величии России? Для вас величие России – это выживание и торжество вашей бездомной нации! Это ваш человек убил Столыпина! Ваш человек убил Распутина, которого, строго говоря, следовало убить лет на десять раньше! Ваш человек убил Урицкого. Ваш человек стрелял в Ленина, хотя очень жаль, что не застрелил. И ваш же человек убьет когда-нибудь Сталина, если тот станет неугоден евреям…
Каменский перевел дыхание, махнул рукой:
– Ну да бог с ним, со Сталиным! Сталин… Сталин – это, если угодно, рок и для русских, и для евреев. И вряд ли он добрее к кому-нибудь из них. Но зато вы, евреи, все эти годы после переворота так унижали все русское, так старательно свергали с пьедесталов русскую культуру, традиции, так усиленно расхваливали мнимые достижения своих соплеменников, так старались внушить нам, русским, что без вас, евреев, мы не стоим ломаного гроша, будто все, что есть в нас так называемого прогрессивного, все это дали вы, что без вас встанет наука, литература, искусство, прекратится жизнь, что… что… я уж и не знаю, в каких областях вы не преуспели! Но вы добились, по-моему, совершенно противоположных результатов!
– Мне совсем не хочется с вами спорить, – устало шелестел из полумрака голос Пакуса. – Тем более что я атеист, не верю ни в еврейского бога, ни в русского, ни во всех прочих. Споры на тему о зловредности евреев закончились еще в начале века. Да и у нас с вами не то положение, когда надо увлекаться философскими построениями и побивать друг друга камнями.
И Пакус снова прикрыл глаза.
Потрескивали остывающие камни, что-то еле слышно мычал Гоглидзе, безотрывно глядя на догорающие головни.
– Да, вы, пожалуй, правы: не до философии, – после продолжительного молчания мрачно согласился Каменский, продолжая, однако, философствовать. – И положение наше хуже губернаторского. Такое ощущение, что вырвался из клетки меньшего размера, а все равно в клетке, только решеток не видать… И вот странность: уже хочется назад, в ту, где до решеток можно дотронуться рукой…
Помолчал немного, воскликнул, будто его осенило нечто сверхгениальное:
– Вот ведь, батенька мой, анекдотец-то какой скверный! А у Горького… у Горького-то, если помните, сокол перед смертью… хоть глоток свободы! А? Всего лишь глото-ок! Мда-а. Когда-то зачи-итывались, зачи-и-итывались. Теперь мы с вами здесь, а Горький, слышно, из Италии не вылезает. Напророчил бурю, поманил соколом, а сам ужом в расщелину…
– Горький, говорили, сейчас в Москве, – вставил Пакус.
– Что? Горький? А-а! Да какая разница, где он сейчас! – досадливо отмахнулся Каменский. – Важно, где сейчас мы с вами! Да-с! – И тут же заговорил спокойно, чуть ли не мечтательно: – И вот что удивительно: ведь знаю совершенно точно: мне из лагеря не выйти, помру каторжанином, зэком, а по всей нашей российской романтике мне надобно радоваться возможности умереть свободным… Однако – вот… Да и вы – тоже, насколько я понимаю… Разве что Гоглидзе? – вспомнил о грузине Каменский и поискал его глазами возле печки.
Тот сидел, обхватив острые колени руками, и неподвижно смотрел на огонь. Услыхав свою фамилию, встрепенулся, вытер рукавом глаз, но ничего не сказал.
– Нет, я, пожалуй, останусь, – произнес Пакус, выдержав долгую паузу. – Плошкин прав: мы можем двигаться только в одну сторону.
– М-мда-а, может быть, может быть, – с сомнением покачал плешивой головой Каменский. – Если не врете, конечно, по своему обыкновению. – И снова вскинулся, зачастил, возбуждаясь от звука собственного голоса: – Вы знаете, что меня поражает?.. Меня поражает, как этот Плошкин, малограмотный крестьянин, такую вот над нами взял власть, что ни туда, ни сюда? Двадцать лет назад я не пустил бы его на порог, а тут – поди ж ты. Вы, большевики, разбудили в народе зверя и разбудили вполне сознательно…
– Ну, это вы бросьте – сваливать все на большевиков! – чуть повысил голос Пакус, но не изменил его равнодушной монотонности. – Зверя разбудили вы, кадеты, эсэры и прочие в феврале семнадцатого, разбудили, а укротить этого зверя не сумели. Что касается нас, большевиков, то нам пришлось делать эту работу за вас. Мы получили тот человеческий материал, который не нами был создан, который вы пестовали в течение веков. Но этот человеческий материал весьма образовался за годы трех революций, империалистической и гражданской войн. Это вы, кадеты, всегда считали народ быдлом, не достойным лучшей участи, это вы в своем презрении к нему полагали, что он непременно пойдет за вами, куда бы вы его не повели. А народ распорядился своей судьбой сам, а когда припекло, выдвинул из своей среды такие самородки, какие вам и не снились, – шамкал Пакус, не поворачивая головы. – Вы тогда не пускали на порог плошкиных, теперь плошкины не пускают на порог вас. И уж, разумеется, не евреи создали тип плошкиных: мы в ту пору не переступали черты оседлости… Тоже, между прочим, изобретение российского царизма, а не евреев и не большевиков.
– Так вас никто в Россию и не звал! Эка! – возмутился Каменский. – А печальный опыт Киевской Руси, платившей дань иудейской Хазарии своими жизнями и рабами! А киевская еврейская община, державшая русских князей в финансовой зависимости и натравливавшая одних на других до тех пор, пока народ не возмутился и не вышиб их из Киева! А опыт других государств! Все это нас предостерегало об опасности подпускать вас слишком близко к русскому народу, столь доверчивому и благодушному, что еврею обмануть его и закабалить ничего не стоит… Что же касается черты оседлости, так вы сами везде и всюду очерчивали себя этой чертой, устанавливали там свои законы, не позволяли никому вмешиваться в вашу жизнь. Да и, позвольте полюбопытствовать, каких таких самородков выдвинул из своей среды русский народ? Вас, что ли? Нет, вы сами себя выдвинули… под шумок. Это ваш Троцкий командовал, кого выдвигать, а кого к стенке ставить. Выдвинули их, видите ли, – презрительно хмыкнул Каменский.
– Опять вы за свое… Между прочим, евреи не рвались в Россию. Это Россия завоевала земли, на которых жили евреи. Хотя бы те же Польшу, Бесарабию, Дагестан… Что касается русского народа, то этот народ в массе своей более человечен и сострадателен, чем вы, русские интеллигенты. А гонимый всегда идет туда, где тепло и свет.
– Уж вы-то гонимые – ха! Впрочем, если бы вас не гнали, вы сами бы устраивали гонения на самих себя: без этого вы просто перестали бы существовать как нация… Нет, не нация, а некая общность, повязанная законами Торы. Я был одним из адвокатов по делу Бейлиса, и уверяю вас, что так называемые еврейские погромы в Бесарабии и других местах провоцировались еврейскими раввинами, чтобы, так сказать, простой еврей не почувствовал себя частью окружающего его народа, не растворился бы в нем, не ассимилировался. Теперь вы с помощью стадности пытаетесь изолировать российский народ от других народов, – все более распалялся Каменский. – А эта ваша шпиономания, раскрытие империалистических заговоров!.. Вот вы сами, любезнейший, небось, не один такой заговор раскрыли… из любви к русскому народу, разумеется. Небось, не одну сотню ни в чем не повинных людей упрятали за решетку или поставили к стенке: чужих-то не жалко! Небось, тоже упражнялись в расплющивании половых членов необрезанных! Молчите? А сами в каком таком заговоре против рабочего класса участвовали? Ась? Не слышу… Ну то-то же. Прав, прав Плошкин, хоть он и мужик, да к тому же и неграмотный: как аукнется, так и откликнется! – торжествующе заключил Каменский.
Теперь Пакус приподнялся на локте, глянул через стол на бывшего профессора, заговорил свистящим от ненависти голосом:
– Да, мы – и я в том числе – боролись с вами всеми имевшимися в нашем распоряжении методами. Но и эти методы выдумали не большевики, нас просто принудили пользоваться ими. Расстрелы? Да, были расстрелы! А вы не тем же самым занимались по отношению к нам? И не вы ли пообещали после захвата Москвы развесить рабочих на всех фонарных столбах? Да, я, как мог, оберегал своих, потому что свои – всегда свои, к тому же их мало, не то что вас, славян. Но оберегая своих, я тем самым оберегал и всех других. Да, я не испытывал и не испытываю любви к русскому народу. А за что любить этот народ? И возможно ли вообще любить чужой народ? Как, впрочем, и евреев. Но и вы, русские интеллигенты, больше кричали о любви к своему народу, а на самом деле никогда его не любили, презирали, втаптывали в грязь. Так жалуйтесь теперь на самих себя… И вообще, – как-то сразу потух Пакус, – методы – это достояние истории. Ваши предки восставших крестьян сажали на кол, вешали, четвертовали… Как видите, прогресс делает свое дело: пуля – не самое страшное.
– Ну, а сами-то вы!.. Сами-то вы! Каким образом здесь очутились? Или тоже мы, русские интеллигенты, виноваты? – визгливым тенорком вонзился в наплывающую тишину голос Каменского, сверкавшего в полумраке ненавидящими глазами.
– А что я? – видно было, как Пакус передернул плечами. – Мой пример доказывает лишь то, что сущность человеческая не меняется в одночасье.
– Поздравляю! Открытие – хоть куда! Впору записывать в «Святцы»!
– Дурак вы, господин Каменский, хоть вы и профессор. Были б поумней, не было б нужды в революциях. Да и сами вы – сидели бы в своей Казани и преподавали право…
– Во-от-с! Вот-с! Вот она ваша жидовская логика! Как рассуждать о русской глупости, так любой еврей гений, а как русский о евреях – так непременно дурак и антисимит! И поделом нам, русским! Поделом! Возомнили о себе: Третий Рим! Третий Рим! – всех преодолеем! Вот он и вышел пшик. Я так думаю, что если нас по свету рассеять, как жидов, так мы и не сохранимся, не выживем, потому что своей, русской веры у нас отродясь не бывало, все заемными пробавляемся, все платье с чужого плеча на себя пытаемся напялить. А почему? А потому, что сперва на Византию, потом на Европу заглядывались! Европейцами стать хотелось! Пошатается иной балбес по парижам, вернется в родные пенаты, а там грязь, мужики сиволапые, вот он и кричит: а подать мне Париж в мою Пашехонь! Тьфу! А мы – Азия-с! Скифы мы, да-с! Кстати, у Ницше сказано, что хорошо бы в какой-нибудь стране попробовать социализм, не считаясь с человеческими жертвами, чтобы увидеть, насколько он несостоятелен. Вот вы и выбрали Россию… за ее простодушие и гостеприимство. И утопили в крови. И продолжаете топить. А что будет, когда ваш Сталин схлестнется с Гитлером? Страшно себе представить. Ведь два таких зверя в одной клетке ужиться не смогут. Нет-с, не смогут. Помяните мое слово.
Пакус ничего не отвечал. И не потому, что сказать было нечего, а бессмысленно все это. Не впервой тычут ему в нос еврейством и приписывают еврейству всякие беды. Конечно, не без этого, но революция для того и совершилась, чтобы ветхозаветное еврейство кануло в Лету. Тем более что он, Пакус, как и многие другие революционеры, ничего не имеют общего с евреями-банкирами, торгашами, сионистам, талмудистами и прочими мракобесами. Кроме корней, разумеется. Лично он, Пакус, свое еврейство преодолел… И вообще спорить на эту тему бесполезно. Тем более с таким шовинистом и антисемитом, как этот бывший адвокат Каменский, в котором татарской крови больше, чем русской. Не обращать внимание на обвинения – лучший способ их избежать.
Пакус искоса глянул на Каменского: тот сидел, понурив плешивую голову, похожий в полумраке на истукана. На этот раз без всякой позы.
Гоглидзе тихо мурлыкал что-то грузинское и шевелил палочкой тлеющие в каменке угли, и мурлыканье это будто рождалось не человеком, а исходило из чрева каменки.