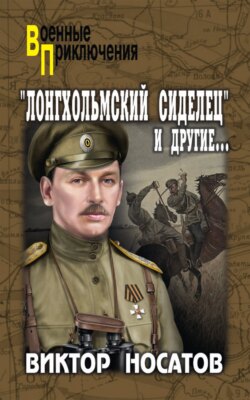Читать книгу «Лонгхольмский сиделец» и другие… - Виктор Носатов - Страница 4
Глава II. Могилев (Сентябрь-октябрь 1915 года)
Оглавление1
Генерал Баташов, отставленный от штаба Северо-Западного фронта, отбыв в течение нескольких месяцев цензовое командование гвардейским полком и бригадой, был направлен в распоряжение Ставки и занимался упорядочением архива генерал-квартирмейстерской службы. А после неожиданной отставки великого князя Николая Николаевича он вместе с офицерами Ставки участвовал в подготовке служебной документации для передачи дел новому Верховному главнокомандующему – государю императору Николаю Александровичу.
Весть о необходимости смены военной власти носилась в офицерской среде уже давно и достигла апогея после так называемого Великого отступления, когда под напором прекрасно снабженных и вооруженных сил противника почти безоружные русские армии оставили Галицию и большую часть Царства Польского. Ответственность за отступление и неорганизованную эвакуацию армии, а также местного населения общественное мнение возложило на начальника штаба Ставки генерал-адьютанта Янушкевича. Вскоре и в столице все в один голос стали ругать его, хотя до обвинений в шпионаже, даже несмотря на его близость к военному министру Сухомлинову, все же не дошло.
Баташов, выполняя обязанности генерала для поручений, однажды, будучи в Брест-Литовске, пытался наладить взаимодействие местных властей и служб, ведавших эвакуацией учреждений и жителей города. Но у него из этого ничего не вышло. Он только смог с сожалением констатировать, что движение огромной массы беженцев на восток практически не было организовано и больше походило на паническое бегство от преследующего по пятам противника, хотя оставление города русскими войсками планировалось несколькими днями позже. Картина была ужасающая. Вдоль железной дороги почти на 30 километров растянулась нескончаемая вереница людей, животных, повозок. Здесь в общей массе сплетались и бесхозяйственность военных обозов с безразличными ко всему возчиками, и старательно уложенный последний скарб бросившего свой дом хозяина-беженца, и гонимые гурты скота, и временные шалаши-отдыхи измученных людей, выбившихся уже из сил, но пока еще живых. И, наконец, могилы, кресты и трупы, трупы человеческие вперемешку с трупами животных. Обо всем увиденном и о своих предложениях по предотвращению подобной «эвакуации» из других городов, оставляемых армией, Баташов доложил Янушкевичу, но тот, занятый разборками внутри Ставки, лишь равнодушно отмахнулся от его советов.
Все это требовало от государя императора кардинальных перемен в Ставке. Значительная часть высших офицеров и столичного общества придерживалась той точки зрения, что наилучшей для фронта была бы комбинация: великий князь – Верховный главнокомандующий, генерал Алексеев – начальник штаба. Правда, были и другие предложения, например, сделать на короткое время из Алексеева Верховного главнокомандующего. «Мол, пусть лучше Алексеев станет козлом отпущения за все былые просчеты, главный из которых – нехватка боеприпасов и оружия». Однако эта мысль так и не была поддержана в верхах. Несмотря на то, что большинство мнений были в пользу Алексеева, офицерская каста смотрела на генерала как на выходца из простого народа, обязанного своей карьере исключительно личным способностям, а не протекции, что в сословной армейской среде не всегда работало на пользу человеку. Все были единодушны лишь в одном – Янушкевича необходимо немедленно сменить.
Баташов, как и многие другие офицеры-монархисты, встретил решение государя императора стать во главе армии с огромным воодушевлением и радостью. Он искренне верил в то, что, став Верховным главнокомандующим, помазанник Божий вдохновит войска на победу, что непременно поспособствует перелому ситуации на фронтах в пользу русских армий. Он надеялся, что это в конечном счете будет способствовать и повышению престижа императора, углублению народной любви и доверия к нему армии, пошатнувшегося в связи с раздуваемыми левой прессой небылицами о предательстве немки-императрицы и дружбе царской семьи с Григорием Распутиным. Разногласия среди офицеров вызывал лишь бывший главковерх и причины его отставки. В ходе разбора архива у Баташова было достаточно времени для того, чтобы понять основные причины стратегических просчетов, в конечной мере приведших к оставлению Галиции и смене Верховного главнокомандования. Многие недостатки в руководстве войсками имели место в связи с неспособностью Николая Николаевича самостоятельно принимать решения и в полной мере за них отвечать. Все это и привело к тому, что большинство стратегических решений за него принимал возомнивший себя великим стратегом генерал-квартирмейстер Ставки Данилов. Эта непререкаемая личность постоянно довлела над начальником штаба Ставки Янушкевичем. Верховный лишь подписывал приказы слепо, доверяя их подготовку и реализацию своим заместителям. А когда настало время отвечать за просчеты, Николай Николаевич, вместо того чтобы тщательно проанализировать их и в дальнейшем не допускать, пошел по наиболее легкому пути – обвинил во всех смертных грехах шпионов и диверсантов. Одним из результатов этого стало его распоряжение о выселении из прифронтовой полосы евреев и немцев, а также всех подозрительных личностей. А его не всегда обоснованные обвинения в адрес военного ведомства, закончившиеся отставкой военного министра Сухомлинова, обвиненного к тому же еще и в шпионстве, тоже ни в коей мере не улучшили обстановки на фронте. Кроме неспособности руководить и принимать ответственные решения Николай Николаевич был упрям и, несмотря ни на что, не хотел расстаться с неспособными советниками. Да и кадровая политика, основанная на протекции и кумовстве, привела к тому, что армиями и фронтами за небольшим исключением командовали влиятельные, но недалекие люди и слабые военачальники. В связи с этим, Баташов искренне надеялся на то, что новый Верховный главнокомандующий начнет свою деятельность с замены неспособных военачальников одаренными офицерами Генерального штаба. Думая об этом, он вспомнил вдруг своего коллегу по генерал-квартирмейстерской службе Пустошина и товарища по Академии Генерального штаба Юдина, части которых отчаянно сражались в Галиции, цепляясь за каждый населенный пункт, каждую возвышенность, чтобы сдержать стремительный натиск врага. Вот они-то ни за что бы не сдали такие мощнейшие крепости, как Ковно, Брест-Литовск и Новогеоргиевск. Вспомнил он и последний разговор с Пустошиным в поезде, направлявшемся из Царского Села в Петроград.
«Как прав был Константин Павлович, утверждая, что виновником большинства наших неудач на фронтах был Николай Николаевич». Он почти дословно вспомнил этот их доверительный разговор:
«…Вы наивный человек, если все еще думаете о победе русского оружия, – ответил Пустошин на возвышенные слова Баташова о Верховном главнокомандующем и его штабе. – В Ставке этому уже не верит никто, обвиняя во всех смертных грехах царскую семью. Скажу больше, в верхах зреет заговор против императора. Я недавно из Барановичей и знаю не понаслышке, что в последнее время туда уж больно зачастили гости из Государственной думы и либералы, которые распространяют среди офицеров ложные слухи о том, что государь – слабый, ничтожный, пустой человек, ничего не понимающий в военном деле, что России нужна твердая рука, чтобы навести порядок не только на фронте, но и в тылу…
– Если бы я вас не знал, как истинного патриота и монархиста, то непременно бы принял ваши слова за провокацию и ложь, – возмутился тогда Баташов, – неужели у вас есть этому веские доказательства, а если так, то почему вы до сих пор не проинформировали об этом Верховного главнокомандующего?
– Но Николай Николаевич и есть самый главный недруг государя императора!
– Вы отдаете себе отчет о том, что вы говорите?
– Вполне. Поймите это и вы. Ведь на наших глазах только в нынешнем году произошло столько трагических для русской армии событий, напрямую связанных с поспешными, я бы сказал, нерешительными действиями Верховного, что Ставке ничего не остается, как только объяснить слишком частые поражения наших войск диверсиями агентов противника, повальным шпионством местечковых евреев, а также отдельных предателей-военных. Не обвинять же во всем этом бездарных генералов, которых поставил на армии и фронты великий знаток военного дела и генеральских душ, любимец армии – дядя царя великий князь Николай Николаевич. Это он после потери армии Самсонова сменил бездарного Жилинского на самолично присвоившего лавры покорителя Галиции, нерешительного и болезненного Рузского, который стал издавать приказы, насквозь проникнутые безнадежным пессимизмом, если еще не хуже – пораженчеством. Не мне вам рассказывать о том, что под Лодзью от полного разгрома войска Северо-Западного фронта спасла лишь стойкость войск и энергия штаба 5-й армии, возглавляемой генералом Плеве. Это он на свой страх и риск не только заставил немцев драпать, но и имел все возможности преследовать их до полного разгрома, но ваш явно растерявшийся командующий Рузский запретил ему наступать, и в этом его поддержал не кто иной, как Верховный. Эти два великих военачальника по сути дела способствовали гибели 20-го корпуса в Августовских лесах и беспрепятственному отходу окруженной германской армии. По своему опыту скажу вам, что наши победы были победами батальонных и полковых командиров, а наши поражения были поражениями главнокомандующих. Так кто, скажите мне откровенно, является главными виновниками наших военных неудач?»
Тогда Баташов не нашелся, что ответить на этот вопрос. Теперь же он наверняка знал, кто своей неспособностью грамотно и ответственно руководить войсками загнал армию в тупик, выход из которого должен непременно найти государь император. Он искренне верил в это и готов был свою оставшуюся жизнь положить на алтарь победы русского оружия. Все эти довольно бравурные мысли, зародившиеся в душе генерала-контрразведчика, несколько потускнели лишь только он начал знакомиться с прибывшей накануне, заграничной прессой, которая довольно неоднозначно встретила весть о смене Верховного главнокомандования своего главного союзника на Востоке. Британская «Times» уверяла, что «…Великий князь Николай Николаевич был искусным стратегом; ему удалось соединить северную и центральную армии. Вся Англия верила в него». В этой же газете описывалась и любовь солдат к великому князю Николаю Николаевичу, которую он приобрел как в мирное время, так и на войне. «…Николай Николаевич был железным человеком и отличался необычайным умением присутствовать именно в тех местах, где это требовалось. Войне была посвящена вся жизнь великого князя. Никто не сделал для русской армии более, чем Николай Николаевич».
«Daily Mail» была более категоричной, заявляя: «Перемена Верховного командования указывает на серьезность положения. Великий князь Николай Николаевич оказал союзникам огромные услуги. Он внушал доверие всем, с кем встречался. Его искренность, простота и отвага снискали ему симпатии и преданность русских армий и восхищение русского народа. Его уважение к Англии и Франции сравнимо лишь с ненавистью, которую он питал к германским влияниям, причинившим России столь много зла. Цивилизация должна быть ему признательна за то, что он в течение долгих месяцев сдерживал немецкие полчища, особенно за вторжение в Восточную Пруссию, которое в самом начале войны оказало заметное влияние на ход военных действий на Западном фронте. Если впоследствии ему пришлось отступить, это объясняется двумя факторами, в которых он неповинен: недостатком боевых припасов и мало развитой железнодорожной системой…»
«За этими и другими статьями чувствуется стремление союзников заступиться за Николая Николаевича, – думал Баташов, закончив просмотр газет. – Это и понятно, ведь на протяжении года он был послушным исполнителем их просьб и требований по активизации действий русских войск в угоду их армий, терпящих поражение. Именно поэтому они не очень-то довольны смещением Николая Николаевича и потому, нахваливая его, надеются на то, что царь еще передумает и оставит его на прежнем месте».
К еще большему удивлению Баташова, бывшего Верховного главнокомандующего нахваливала и берлинская печать. Так центральный рупор германской пропаганды газета «Berliner Tageblatt» писала: «Великого князя Николая Николаевича удаляют потому, что он, несмотря на несомненно проявленные им способности при наступательном движении, отвечает за русские катастрофы в Польше и Галиции, а также потому, что после этих неудач его влияние сломлено». «Ни для кого не секрет, что царь и многие члены царской семьи неохотно подчинялись воле великого князя. Его терпели, его не могли удалить, так как он пользовался авторитетом и имел много сторонников в армии и в политических кругах. Теперь слава его исчезла и появилась возможность удалить его…»
Хвалила великого князя и «Berliner Lokal-Anzeiger», которая вещала: «…Падение великого князя Николая Николаевича произведет сильное впечатление и вне России, особенно в Париже, где его обожали. Мы не можем не признать, что наш бывший противник был храбрым и честным врагом. Может быть, и он был лишь жертвой отсутствия системы и царящих в России беспорядков, последствия которых, вероятно, сказались сильнее, чем несомненная энергия великого князя. Судьба его незавидная. Когда-то всеми чествуемый любимец и национальный герой, он ныне с глубокой горестью покидает европейский театр военных действий, чтобы стать во главе Кавказа. Может быть, в глубине его души таится надежда вернуться когда-нибудь в роли спасителя отечества от внутреннего врага…» «Он обладал не только огромной энергией, но доказал свою талантливость в составленных не без его участия военных планах. Его план вступить в Пруссию с двумя армиями и соединить их в одну неотразимую силу был так же умен, как план нашествия на Восточную Галицию, чтобы парировать удар, направленный против русской территории. Но великий князь обладает и большим упрямством, которое и заставило его вцепиться в идею взять Карпаты». «Его престиж достиг апогея, когда армия заняла почти всю Галицию и Буковину и когда он, к удивлению всего мира, пожертвовал тысячами людей в Карпатах. Вместе с тем тайный ужас охватил союзников. В газетных статьях чувствовалось, что великий князь внушал им страх. Он – идеальный тип для драм Шекспира. После его ухода поля сражений очистятся, но удастся ли царю найти человека, который мог бы заменить энергию великого князя, – сомнительно. Не следует забывать, что русская армия привыкла к его железной руке…»
За этими хвалебными берлинскими статьями Баташов разглядел руку шефа Германской разведки Николаи, который в своей тайной деятельности, наряду с разведкой и контрразведкой довольно высоко ставил и пропаганду, умело манипулируя средствами массовой информации. Он лично направлял разрушительную работу германской печати, неустанно подрывающей главные устои, на которых зиждется государство Российское, и газеты, в том числе и либеральные российские, зачастую являлись главною цитаделью этого всеобъемлющего разрушителя.
«Когда человека нахваливают и союзники, и враги, этот факт наводит на тревожные мысли, – размышлял Баташов, – выходит, что все они, и союзники, и враги делали ставку на „Николашу“. Союзники видят в нем послушного исполнителя, готового по их первому требованию бросить в жерло войны любое количество российского „пушечного мяса“, чтобы оттянуть на себя побольше германских корпусов, и потому всячески пытаются задобрить его в трудную минуту на случай, если, не дай бог, что-то произойдет с царем. А немцы видят в нем примитивного полководца, не признающего маневренной войны и постоянно оглядывающегося на своих ординарных советников, что позволяло и позволяет Гинденбургу своими нестандартными действиями выигрывать даже успешно начатые нами сражения. Кроме этого, противник, видя в лице восторженного англофила Николая Николаевича главную помеху в сепаратных переговорах о мире, своими хвалебными статейками пытается „навести тень на плетень“. Как неприятно это осознавать, но таковое тоже может иметь место».
С этими грустными мыслями Баташов направился в гостиницу «Бристоль», где он в ожидании назначения проживал уже почти полмесяца с тех пор, как его отозвали в Могилев. За делами да заботами он так и не смог как следует осмотреть этот тихий губернский городок, расположенный на берегу Днепра. На первый взгляд это был небольшой грязный и пыльный, лишенный примитивных удобств городишко с конкой вместо трамвая, населенный в основном еврейской беднотой. Но за то время, что Баташов был здесь, многое изменилось. Как говорится, положение обязывало. Губернаторским указом улицы очистили от грязи, облагородили парк вокруг губернаторского дома, открыли несколько новых лавок и общественных заведений. Заметно увеличилось число полицейских, следящих за порядком в центре. Баташов слышал о периодически гастролирующих в городе драматических труппах, но из-за постоянной загруженности так и не удосужился побывать ни на одном спектакле. Основной маршрут его движения ограничивался гостиницей, в которой он ночевал, и Ставкой, где он временно трудился «архивариусом». Так контрразведчик называл себя в шутку, по долгу службы помогая штабным приводить в порядок архив первого года войны. Знакомство с приказами, распоряжениями, указами, уложениями и прочими документами вызывало у Баташова чисто профессиональный интерес. Чем больше он с ними знакомился, тем больше удивлялся противоречащим друг другу приказам и распоряжениям, исходящим из Ставки. Особенно много противоречивых и довольно абсурдных указаний поступило в войска в период летнего отступления. В ответ на них из частей и соединений шли зачастую панические телеграммы, по тону которых чувствовалось, что положения войск без достаточного снабжения оружием и боеприпасами постоянно ухудшается. В складывающейся обстановке на фронте и в армейских тылах каждую минуту ждали непоправимой катастрофы. Армия уже не отступала, а попросту бежала. Было видно, что Ставка окончательно потеряла голову. Эти тревожные выводы вкупе с информацией, полученной из зарубежных изданий, не давали генералу покоя почти всю ночь. Только под утро он, сморенный усталостью, заснул.
2
Утро следующего дня выдалось пасмурным и дождливым. Приведя себя в порядок, Баташов торопливо спустился на первый этаж. И вовремя. По гулкому коридору в штабное собрание, устроенное из кафешантана, бывшего при гостинице «Бристоль», направлялись начальник штаба Ставки Алексеев и генерал-квартирмейстер Пустовойтенко, которые входили, как правило, последними. В довольно просторном зале с небольшой сценой, занавешенной пурпурным занавесом, находилось с десяток накрытых белыми скатертями и уставленных закусками столиков, большинство из которых были уже заняты. Как только Алексеев переступил порог офицерского собрания, все дружно встали.
– Господа офицеры… – устало промолвил начальник штаба, и все, заняв свои места, начали шумно обсуждать последние новости с фронта. Досыта наговорившись, офицеры в ожидании омлета и кофе, принялись уничтожать закуски.
Столик, где вместе с Баташовым столовались прикомандированные к Ставке офицеры, стоял за полупрозрачной ширмой, отделявшей часть зала, где размещались чины Ставки и прибывающие из Петрограда по разным надобностям министры, сановники и генералы свиты Его Величества, если они не были приглашены к царскому столу. Прямо напротив его столика за ширмой располагались представители военных миссий дружественных держав.
Извинившись за неудобство, распорядитель офицерского собрания приказал служителям подвинуть стол, за которым сидел Баташов, поближе к ширме, и впритык к нему был установлен другой. Официанты тут же накрыли его и замерли в ожидании приказаний. Вскоре в дверях показались два бравых кавалерийских генерала, в одном из которых Баташов к своей большой радости узнал давнего коллегу и боевого товарища по Туркестанскому военному округу Пустошина. Распорядитель пригласил вошедших следовать за собой. Генералы поочередно представились Алексееву и после этого расселись на приготовленные им места рядом с прикомандированными к Ставке офицерами.
Увидев Баташова, Пустошин расплылся в радостной улыбке.
– Я искренне рад видеть вас, Евгений Евграфович! – простуженным басом воскликнул он. Обнявшись, как старые и добрые друзья, генералы, чтобы не мешать другим, уселись на самом краю стола и с ходу забросали друг друга вопросами. Вместо того чтобы ответить на очередной вопрос, связанный с их общей деятельностью, Баташов, покосившись в сторону союзников, поднес к губам палец.
– Константин Павлович, давайте лучше о семье. Как поживает Любаша, ваша красавица дочь? Небось замужем уже?
– Нет. Я же обещал ее за вашего Аристарха выдать. До сих пор сватов жду, а от вас ни слуху ни духу.
От этих слов Баташов смущенно крякнул и, не отвечая, вплотную занялся закуской. Молча и сосредоточенно покончив с ней, он подозвал официанта, приказав подавать следующее блюдо.
– Небось с сыном опять что-то приключилось? – догадался Пустошин. – Так ты не увиливай, говори прямо.
– Аристарх-то мой женился, – виновато взглянув в глаза боевого товарища, сказал Баташов.
– Ну и делов-то, – нисколько не удивился Пустошин, – моя Любаша другого найдет. Будет потом твой гусар локти кусать, попомни мое слово.
– Современная молодежь не очень-то жаждет родительского благословения. Сам все порешил и меня перед фактом поставил…
– Да-а-а, молодежь нынешняя нас, стариков, ни во что не ставит. Но откровенно скажу тебе, по смелости и отваге нам они не уступят ни йоты. Слышал я, Аристарх твой Георгия 4-й степени получил. А у меня, старика, такой боевой награды не было и нет. Откровенно говоря, я бы все свои «Анны» и «Станиславы» на одного такого Георгия поменял.
– И я бы не отказался, – с нескрываемым чувством гордости за сына сказал Баташов, – но у нас еще есть время доказать, что и мы не лыком шиты!
– Воистину, – воскликнул Пустошин, – даст бог, мы еще покажем, что не лаптем щи хлебаем!
Услышав сдержанный смех за перегородкой, кавалерист недовольно поморщился.
– В Ставке, несмотря на резкие перемены, мало что изменилось, – с сожалением промолвил он, – на фронте солдаты кровь проливают, а штабные благодушествуют…
– Там не штабные, – поспешил заступиться за офицеров Ставки Баташов, – это союзники радуются успешно начатому сражению в Артуа. Пришло сообщение, что немцы на северо-востоке Франции и на юго-востоке Шампани отступили на несколько километров…
– А-а, это союзнички наши там заливаются, – возбужденно воскликнул Пустошин, – что ж, им есть чему радоваться, зная, что накануне противник перебросил с Западного фронта на наш Восточный еще три армейских корпуса и всю свою кавалерию.
За ширмой завтракали французский военный атташе де Ля-Гиш и давний знакомый Баташова, помощник британского военного атташе майор Джилрой.
В бывшем кафешантане было довольно шумно. За завтраком офицеры судачили прежде всего о последних неудачах армии, оставившей за лето ряд важных крепостей и почти всю территорию Царства Польского.
Неожиданно двери офицерского собрания широко распахнулись, и в зал один за другим плавно выплыла дюжина вышколенных официантов, на высоко поднятых подносах которых искрилось шампанское.
В отличие от Николая Николаевича, который не запрещал в Ставке офицерские застолья с вином, Алексеев установил сухой закон и нарушал его лишь в самых торжественных случаях. Поэтому появление шампанского шумно приветствовалось офицерами.
– Господа офицеры! – чуть повысил голос Алексеев. – Представитель союзной нам Франции, присутствующий здесь, хочет выразить нам свою искреннюю признательность за то, что в результате нашего хоть и не удавшегося в полной мере наступления Германия сняла с Западного фронта три армейских корпуса и кавалерию, позволив тем самым французской армии не только сдержать напор превосходящих сил противника, но и начать успешную наступательную операцию в Артуа. Прошу, господин генерал!
Де Ля-Гиш встал и, заложив руку за отворот своего генеральского мундира, словно новый Наполеон, произнес короткую и напыщенную речь:
– Ваше высокопревосходительство, господа офицеры, от имени французского правительства благодарю вас и выражаю вам искреннюю признательность за своевременное и точное выполнение требований франко-русской военной конвенции, в результате чего французская армия сумела не только сдержать натиск германских войск, но и подготовиться к наступлению в Артуа. За русскую армию, уже неоднократно спасавшую Францию от врага! – провозгласил француз.
– За русскую армию, – подхватили офицеры и молча без обычного троекратного «ура» выпили.
Прекрасно понимая настроение русских, французский генерал добавил:
– Я вместе с вами скорблю по солдатам и офицерам, погибшим при выполнении своего святого долга перед союзниками, которые из последних сил отбивают натиск немецких полчищ. Франция никогда не забудет этого…
В офицерском собрании воцарилось молчание. Слышно было лишь, как постукивали о фарфор ножи и вилки, да звенели пустые бокалы, которые убирали со столов неспешные официанты. Офицером было что вспомнить в эти трагические дни и ночи отступления русских войск, названного впоследствии историками Великим. Только француз с англичанином радостно потирали руки, то и дело с опаской поглядывая в сторону Алексеева.
Баташов, сидя спиной к союзникам, невольно прислушался к разговору военных агентов, благо, что их столики разделяла всего-навсего полупрозрачная перегородка.
– Как вовремя русские бросили в летнее наступление все свои войска! – забыв о своей только что произнесенной скорбной речи восторгался де Ля-Гиш. – Но мир должен больше скорбеть о наших потерях.
– Это так, но жертвы русских и в самом деле огромны, – пожал плечами британский майор.
– Как можно сравнивать невежественную и бессознательную русскую массу и нас – «сливки и цвет человечества»? – возразил француз. – Так что, с цивилизованной точки зрения, наши потери чувствительнее русских. Но не это самое важное. Главное, что бошам пришлось сразу же снять с Западного фронта два армейских корпуса и всю кавалерию.
– Вы, наверное, ошиблись генерал, – вкрадчивым голосом произнес майор Джилрой, – ведь Алексеев сказал, что боши сняли с Западного фронта три армейских корпуса…
– Я знаю наверняка, – уверенно произнес де Ля-Гиш, – просто русские, как всегда, завышают свою помощь нам.
– И все-таки вам здорово повезло! – воскликнул англичанин. – Если бы не русские, боши уже вовсю забавлялись бы на Монмартре с французскими красотками…
– Но и вашему экспедиционному корпусу пришлось бы несладко, – отпарировал французский генерал, обиженно поджав губы.
– Что правда, то правда, – согласился майор, – теперь, когда стало известно о миротворческих потугах кайзера, нашедших своих сторонников в окружении российского императора, перед нами стоит единая задача: сделать все от нас зависящее, чтобы Россия, несмотря ни на что, продолжала войну. Как только русский солдат воткнет штык в землю, Германия сразу же всей своей мощью обрушится на нас…
– Вы правы в том, что безопасность наших стран во многом зависит от того, как дерутся русские, – откликнулся Ля-Гиш, – хотя, откровенно говоря, я ждал от русского солдата большей стойкости. Но потеря крупнейших крепостей, оставление Галиции и большей части территории Польши говорит о том, что им просто не по плечу воевать с цивилизованными армиями. Боши подавили славян не только превосходством тактической подготовки, искусством командования, но и обилием боевых запасов…
– Вы правы, до войны и я более высоко оценивал русское «пушечное мясо»…
– Вы же знаете, что русский солдат на военном рынке сегодня довольно дешев, – прервал размышления майора де Ля-Гиш, – так пусть Ставка за неимением у нее стратегических талантов по-прежнему вводит в наступление новые и новые дивизии, прибывающие из Сибири. Недостатка в этом не предвидится. Русские бабы нарожают еще. Чем дольше и больше русские будут воевать германца, тем меньшие силы будут противостоять нам на германском фронте…
– Для этого необходима война «до победного конца», – согласился Джилрой, – но сегодня среди миротворцев сама императрица, которая почти в открытую, уговаривает супруга поскорее выйти из войны, заключив сепаратный мир с Германией…
– Скажу вам больше: царица следует советам Распутина – ярого противника войны. Именно поэтому с ним и с его последователями надо поступать, как с самыми заклятыми нашими врагами, – понизил голос французский генерал, – и, хотя время дворцовых переворотов кануло в Лету, мы с вами должны задуматься о дальнейших перспективах принятого царем решения – возглавить армии. Отставка великого князя Николая Николаевича, которого союзнические правительства всячески поддерживали, ни в коей мере не должна поколебать нашего единства в вопросе о нем. Мне кажется, великий князь еще не раз сослужит нам хорошую службу, тем более, что этот русский богатырь-боярин, недолюбливает своего племянничка-императора и яро ненавидит императрицу с ее довольно темным окружением. Вот на этом-то и надо разыграть нашу российскую карту.
– Предложение заманчивое, – задумчиво промолвил Джилрой, – но мы готовы разыграть русскую карту лишь при условии, что козыри у нас на руках будут разделены поровну. Первую половину дела мы уже почти осуществили, следующий наш ход – операции под кодовым названием «Abdication», – многозначительно добавил он.
– «Отречение», – чуть слышно повторил де Ля-Гиш, – заманчивая идея, но дальше развивать эту тему опасно. Встретимся после завтрака на пустынном берегу Днепра.
От того, с каким высокомерием и презрением союзники говорили о России и ее христолюбивом воинстве, ценой огромных потерь заслонивших Францию от позора порабощения жестокими тевтонами, у Баташова кровь ударила в голову. Сначала он порывался встать, чтобы раздать союзникам пощечины и вызвать их на дуэль. Лишь огромным усилием воли, закаленной в борьбе с тайными и явными врагами, он заставил себя сдержаться. Только желваки заиграли на его покрасневшем от гнева лице, вызвав у сидящего напротив Пустошина явное удивление и сочувствие.
– Вам плохо, Евгений Евграфович? – оторвавшись от трапезы, озабоченно спросил он.
– Да мне очень плохо! – хриплым голосом ответил Баташов. – Мне так плохо, что хочется побыстрее отсюда выйти, чтобы больше никогда не видеть этих свиных рыл, – указал он взглядом на мирно жующих пожарские котлеты союзников.
– Простите, господа, – извинился перед офицерами Пустошин, – Евгению Евграфовичу отчего-то нехорошо. – И, взяв под руку Баташова, он вместе с ним поспешил к выходу.
3
Только вдохнув полной грудью по-осеннему влажный и прохладный воздух, пахнувший преющими листьями и речной тиной, Баташов начал понемногу отходить от праведного гнева.
– Константин Павлович, приглашаю вас ко мне в номер, – предложил он уже спокойным умиротворенным голосом, – кажется, Варвара Петровна упаковала мне кой-чего на дорожку.
Прикрыв наглухо дверь, Баташов подробно пересказал Пустошину невольно подслушанный им разговор союзников. Не стал он говорить лишь о том, что те сговариваются о проведении операции под названием «Abdication», потому что хотел сначала сам разобраться, в чем ее суть.
Поморщившись, словно от зубной боли, кавалерист, глубоко вздохнув, убежденно сказал:
– Этим христопродавцам вновь неймется. Это и понятно, ведь Европа никак не может забыть побед русского воинства под предводительством Суворова, Кутузова и Скобелева, поставив себе целью всячески ослаблять мощь России любыми средствами. Вся новейшая история говорит об этом. Как только Российская империя начинает подниматься после очередной своей кровопролитной победы на ноги, бывшие и настоящие союзники, не дожидаясь, пока она станет сильнее их, вновь вовлекают ее в войну. Так было! Так будет всегда! Такова доля православного воинства! – глухо произнес пророческие слова генерал и перекрестился.
Баташов хотел ему возразить, но не стал. Уж больно похожи были его слова на правду.
Достав из походного чемодана бутылку коньяку, он разлил золотистую влагу в две серебряные чарочки, которые всегда возил с собой, и, взглянув в глаза своему давнему и любимому товарищу, грустно произнес:
– Давайте выпьем просто так, не чокаясь и не произнося тосты. Мне за сегодняшний день так опостылела праздная говорильня, что охота податься куда подальше, в самый глухой монастырь братьев-молчунов.
Пустошин понятливо кивнул головой и, не произнося ни слова, опорожнил стопку. Следом выпил и Баташов.
– С союзниками все понятно, – задумчиво произнес Пустошин после явно затянувшейся паузы, – они будут делать все для того, чтобы Россия ни в коем случае не вышла из войны. Это для нас с вами не в новинку. Россия всегда была, словно кость в горле Западным державам, особенно Великобритании. На Востоке мы с вами не раз встречались с британцами в ходе «Большой игры». И за все это время я не встретил там ни одного настоящего джентльмена…
– Я тоже, – откликнулся Баташов. – Скажу больше: разглагольствовавший за ширмой британский майор лет двадцать назад чуть было не отправил всю мою экспедицию на тот свет…
– Наслышан о ваших похождениях в Памирах, – сочувственно взглянув на товарища, сказал Пустошин. – Неужели это тот самый англичанин, который сделал все, чтобы направить ваш экспедиционный отряд через высокогорную пустыню?
– Да! У меня взгляд наметанный. Я его сразу узнал, как только он появился в Петрограде. Хотя майор Джилрой и делает вид, что познакомился со мной всего лишь год назад. Очень скоро мне предстоит наконец-то раскрыть некоторые британские секреты, вот тогда-то я и возьму его за жабры и заставлю вспомнить былое. Но все это, уважаемый Константин Павлович, мелочи по сравнению с нынешней летней катастрофой, обрушившейся на нас. Неужели мы не в состоянии были ее предотвратить?
– Могли, – твердо заявил Пустошин, – если бы в Ставке хоть кто-то мыслил стратегически и не игнорировал предложений государя…
– Что вы имеете в виду? – удивился Баташов.
– От близких мне офицеров Генштаба я узнал, что при обсуждении плана весенней кампании 1915 года в Ставке вновь вышел спор о том, чей фронт важнее: Юго-Западный или Северо-Западный. Иванов доказывал, что Северо-Западный фронт находится в исключительно благоприятных условиях и что за него нечего беспокоиться, а вот его фронт, самый важный, в тяжелом положении, хотя знал, что три корпуса Северо-Западного фронта понесли огромные потери и при этом правый фланг обойден противником и находится под постоянной угрозой окружения. Исходя из этого, Рузский предложил после пополнения войск и подвоза боеприпасов решительными действиями опрокинуть неприятеля, для чего необходимо было отойти на ближний укрепленный рубеж, с тем, чтобы избыток войск перебросить на правый берег Вислы и упереться левым флангом не в Вислу, а в укрепленный пояс Новогеоргиевск – Згеж. Этим, по его мнению, он планировал сократить свой фронт для того, чтобы создать сильные резервы до выяснения направления главного удара неприятеля. При этом он считал, что отход под давлением противника очень труден и рискован, чреват потерей тяжелых орудий и техники, поэтому предлагал заблаговременно оставить позиции. Иванов категорически заявил, что такой отход оголит его правый фланг и заставит и его войска также отойти. Верховный его поддержал и по рекомендации Данилова-Янушкевича приказал позиций не покидать, быть в готовности контратаковать противника и при первой же возможности начать наступление в Карпатах. Гора вновь родила мышь.
Начавшаяся в начале 1915 года англо-французская операция на Черном море продемонстрировала нам, что, несмотря на все свои заверения, союзники не хотят пускать Россию в Константинополь. Обеспокоенный таким поворотом событий, государь распорядился начать немедленно основательную подготовку к собственной Босфорской операции, подписав соответствующую Директиву. По оценкам морских офицеров, она, при минимальном риске, могла сыграть в войне решающую стратегическую и политическую роль. Даже при самом неблагоприятном исходе десанта, мы бы рисковали лишь одной бригадой, а если бы даже при этом погиб весь Черноморский флот, состоявший из устарелых судов, то и это не было бы бедой, ибо как раз весной 1915 года должны были вступить в строй мощные современные корабли и истребители. Но государь император не был понят Николашей. Вместо того чтобы начать формирование десантной группировки, Верховный погубил без всякой пользы десантные войска, бросив их на Сан и Днестр. Босфорская операция была отодвинута на неопределенное время. В ходе летнего отступления Иванов пытался сразу же после горлицкого разгрома помочь третьей армии переброской туда 33-го армейского корпуса из Заднестровья, но Ставка запретила трогать этот корпус: он был ей нужен для задуманного Николашей наступления девятой армии в Карпатах, и он распорядился отправить в помощь истекающей кровью армии 5-й Кавказский корпус, несколько частей которого были предназначены для овладения Константинополем. Таким образом, совершена была величайшая стратегическая ошибка. Отказавшись от форсирования Босфора и овладения Константинополем, Николаша обрек Россию на затяжную позиционную войну, – с болью в голосе констатировал Пустошин.
– Вы как всегда правы, – согласился Баташов. – Если мы сами не сможем открыть Босфор для свободного прохода русских судов, то после провала десантной операции союзников на Галлиполи надеяться на них просто бессмысленно. Но, даже завладев Босфором, они непременно начали бы ставить нам всевозможные препоны.
– И я бы нисколько этому не удивился, – усмехнулся кавалерист, – все эти европейцы на протяжении веков были нашими недругами. Но в самое сердце поразило меня предательство Болгарии, правительство которой пошло на союз с Германией. Конечно, я понимаю, что болгары, которых мы освободили от туретчины, в большинстве своем против этого союза. Но тем не менее, насколько я знаю, Фердинанд уже готовит против нас армию в 300 тысяч штыков и 7 тысяч сабель…
Так за разговором, попивая коньяк, словно водичку, генералы засиделись за столом до самого вечера. И только когда в стоящем напротив губернаторском присутствии зажглись огни, они, распрощались. Генерал Пустошин, назначенный командиром армейского корпуса Западного фронта, убывал вечерним поездом в расположение своих войск.
4
Решив прогуляться перед сном, Баташев как обычно направился на окраину города, где свежий ветерок, лохматя золотисто-багровые кроны развесистых кленов, приятно бодрил, настраивая все его помыслы на оптимистический лад. Проходя мимо ставшей недавно штабной Спасской церкви, он, заметив пробивающийся из-за приоткрытой двери свет, заглянул во внутрь и в глубине храма у самого иконостаса увидел рослого священника, страстно отбивающего поклоны. Боясь побеспокоить молящегося, генерал, тихо ступая, вошел и услышал знакомый голос протопресвитера армии отца Шавельского, который проповедовал на воскресных обеднях, где обычно присутствовали почти все офицеры Ставки. От вида страстно и самозабвенно бьющего низкие поклоны Богу воинского заступника у Баташова выступили на глазах слезы умиления. Он, стараясь ступать как можно тише, чтобы не отвлечь священника от страстной молитвы, подошел поближе и услышал явно возвышающие души паствы слова: «…Ты с нами, Господи! Да уразумеют народы, что Ты с нами! С Тобой страха не имеем, смерти не страшимся! С Тобой единицы нас будут гнать тысячи врагов, а десятки – тьмы их! Даруй единомыслие и согласие вождям нашим и даруй нам скорую решительную и бескровную победу! Да вознесется тогда к престолу Твоему из миллионов братских сердец могучее и радостное песнопение: „Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение. Осанна в вышних!“ Помоги же нам, Господи, победить врага и озари нас лучом милости Твоей и счастья! Да не в суд и не в осуждение будет мне ратный подвиг мой, но в возрождение Великой России! Аминь».
«Вот, наверное, единственный в Ставке человек, искренне страждущий за всю армию, за всех ее больших и малых начальников, причастных и совсем не причастных к трагическому исходу сражений…» – подумал Баташов, и ему неожиданно захотелось припасть к руке этого подвижника, облеченного саном страдать и молиться за всех человеков. Услышав за спиной шаги, отец Шавельский встал с колен и обернулся.
– А-а, это вы, Евгений Евграфович! – обрадованно воскликнул он. – Я искренне рад видеть вас в храме. Исповедоваться пришли?
– Нет, ваше преосвященство. К исповеди я сегодня не готов, – виновато сказал Баташов, – может быть, позже, – добавил он, припадая к руке, осенившей его крестным знамением.
– Это вы, батенька, зря, – мягким, доверительным голосом продолжал уговаривать священник, – вижу, и вы сегодня не в духе. А знаете, перед отъездом в войска у меня побывал Константин Павлович. Пришел он ко мне какой-то смурной, словно в воду опущенный, а после исповеди ушел просветленный и, как всегда, неунывающий.
Баташов после этих проникновенных слов невольно улыбнулся.
– Вот и вы, зайдя в Божий храм под сенью лучезарных ликов святых земли Русской словно и в самом деле в раю побывали. И на ваше чело, я вижу, снизошла благодать Божья, – умиротворенно изрек отец Шавельский.
– В этом нет ничего удивительного, – неожиданно заявил Баташов, чем поставил священника в тупик.
– Я же родился в трех верстах от Рая! – углубил он искреннее удивление святого отца.
– Не богохульствуйте, сын мой! – строго сказал отец Шавельский.
– Я говорю вам чистую правду, – глядя в построжавшее лицо протопресвитера, настаивал на своем Баташов, – просто имение, где я появился на свет, находится в трех верстах от железнодорожной станции Рай.
Услышав это, священник облегченно вздохнул.
– Неисповедимы пути Господни! – воскликнул он. – Только вы, Евгений Евграфович, больше никому об этом не говорите.
– Но почему?
– Могут неправильно понять. Ведь не всем дано познать перипетии человеческих судеб и вечную человеческую душу…
– Благословите, святой отец!
– Благословляю, во имя Отца, Сына и Святого Духа! Аминь! – Отец Шавельский трижды перекрестил генерала.
Одухотворенный благословением протопресвитера, Баташов продолжил свою прогулку. Выйдя на берег, он глубоко вдохнул в себя влажный сырой воздух, пахнувший речной тиной и рыбой. Тихо и умиротворенно катил свои воды Днепр, купая в них звезды, среди первых воссиявшие на небосклоне. Устоявшуюся вокруг тишину изредка нарушали прибрежные всплески волн да крики рыбарей, перекрывающих стремнину сетями. В такие минуты особенно хорошо думалось.
Плотнее закутавшись в шинель, генерал еще и еще раз прокручивал в голове последние слова союзников, случайно подслушанные им в офицерском собрании и, как он думал, напрямую связанные с отречением государя. По тону, как это было сказано британским майором, он понял, что союзники настроены именно против государя императора, который, по всей видимости, своим неожиданным решением стать во главе русской армии спутал все их карты. Отставленный от командования и сосланный на Кавказ великий князь Николай Николаевич уже не представлял собой той мощной силы, могущей заменить собой царя в случае «дворцового переворота». Что было вполне возможно, в случае, если бы государь всерьез задумался о сепаратном мире, слух о котором проник уже не только в высшие круги Петрограда, но и в Ставку.
Баташов, зная о секретных потугах немцев, пытавшихся любыми средствами склонить государя императора к миру, относился к этому скептически. Император был непреклонен, несмотря ни на миротворческие письма и телеграммы Распутина, ни на советы Александры Федоровны. Правда, одно время генерал чуть было не поверил слухам, повсеместно распространяемым либералами среди офицеров о возможной причастности к шпионству немки-царицы и ее главного советника – Распутина, но, проанализировав эти недалекие домыслы, понял, что все это всего лишь бездоказательные бредни, отголоски шпиономании, захлестнувшей после ряда трагических поражений и неоправданно быстрого отступления не только армию, но и всю страну. Для него император и императрица были и оставались помазанниками Божьими. Он только мог втайне от всех скорбеть о том, что государыня считала Распутина святым чудодейственным человеком, который из-за своих каких-то особенных качеств облегчал страдания неизлечимо больного наследника цесаревича и этим завоевал доверие и известное положение у государя и государыни. Он считал это временным несчастьем для престижа трона, полагая, что после полного выздоровления наследника Распутин просто за ненадобностью исчезнет. Баташов прекрасно знал, что все те, кто больше всех кричат о Распутине и готовы гнать его вон, находятся в оппозиции государыне, следовательно, и государю. Таким образом, переставая быть верноподданными, они увеличивали ряды врагов верховной власти. Вместо того чтобы помогать Верховному правителю в трудную годину войны, либеральная Дума, должная выражать чаяния общества, раздувала всевозможные грязные слухи о царской семье, занималась науськиванием общественности против правительства, а через правительство и против самодержавия. Поэтому министры, которые «стремились» быть ближе к обществу, попросту не могли быть лояльными в отношении власти, там царил, так называемый Прогрессивный блок, который вел «беспощадную войну» с правительством. Высших чиновников, которые ставили волю государя выше пожеланий блока, огульно называли «распутинцами». Находясь по делам службы в Петрограде и периодически бывая в знаменитом Яхт-клубе, Баташов не раз слышал великосветские разглагольствования о Распутине и «распутинцах», засевших в верховной власти, которые полностью зависят от известного всем Тобольского старца, который, в свою очередь, постоянно кичится своими близкими связями с царской семьей и т. п. Как это было не прискорбно, слышал это он и от великого князя Николая Михайловича. Тема «распутинцев» открыто обсуждалось не только в великосветских салонах и правительственных комитетах, но и в армии. Подобные разговоры не вызывали у Баташова ничего, кроме откровенной брезгливости. Это и понятно, ведь он относился к Распутину, как к необходимому злу. История знала немало таких вот проходимцев, при дворах королей, царей, рыцарей и бояр от веку были фавориты, шуты, чудаки, лекари, советчики и юродивые. Для Баташова и Распутин был тоже в этом ряду, являясь «дворовым» слугой с пороками, которые водились у бар, был «фаворитом», какие существуют у всякой толпы. Наверное, такими же были «пирожник» Меншиков, «царский забавник» Балакирев, дворецкий Кутайсов и иже с ними…
Перечитывая приказы и распоряжения, находящиеся в архиве Ставки, общаясь с хорошо знакомыми ему офицерами, бывшими в окружении «Николаши», Баташов еще и еще раз убеждался в том, что главными распространителями мифов о царице, ее советниках и евреях-шпионах были не только либералы, но и генералы во главе с «Николашей». Великий князь занял по отношению к государю, его семье и правительству нелицеприятную позицию, основанную на бесцеремонной и суровой критике действий государя императора снисходительными насмешками над ним и высокомерным пренебрежением, которые угодливо был приняты его ближайшим окружением и постепенно начали распространяться не только в тылу, но и на фронте. Такое оппозиционное по отношению к царю и правительству положение стало для него основным средством к оправданию себя в военных неудачах и в то же время первопричиной его явно разрекламированной популярности. Баташов прекрасно знал о стратегических талантах «Николаши», который расценивал явления войны по-обывательски просто. Для него победоносным было безостановочное движение войск вперед с обязательным занятием городов и поселков, и чем крупнее был занятый город, тем была крупнее и победа. Поэтому, узнав о неожиданном и скоротечном захвате армией Рузского города Львова, он тут же, не разбираясь в сути произошедшего, ходатайствовал перед государем императором о награждении командарма сразу двумя Георгиевскими крестами, хотя того за самовольное изменение решения Ставки о наступлении в Галиции надо было отрешить от должности. Именно поэтому, когда под мощным нажимом врага русские армии начали отступать, «Николаша» и возглавляемая им Ставка не смогли оказать должного отпора германскому наступлению и способствовали созданию панического настроения не только на фронте, но и в стране. Мало того, в тайне от всех Ставка уже составляла планы эвакуации Киева…
Все это не могло не повлиять на отношение Баташова к «Николаше», которого он не только не уважал, но и искренне презирал, особенно после последних неудач, приведших к поспешному отступлению на всех фронтах. Именно поэтому он с огромным облегчением и воодушевлением встретил весть о вступлении Николая II в должность Верховного главнокомандующего. Вопреки предсказаниям скептиков, что с принятием на себя Верховного командования государь встретится с непреодолимыми препятствиями и дела на фронте пойдут еще хуже – этого не произошло. Армия в своей основе реагировала на это совсем не так, как предсказывали некоторые министры, думцы и великие родственники. Военные действия несколько стабилизировались и пошли как-то активнее, с меньшими потерями. Кончилась паника, которой была охвачена старая Ставка во главе с великим полководцем «Николашей». Инициатива постепенно переходила в руки русского командования. И самое главное – начальник штаба Алексеев наконец-то вышел из паническое состояния, навеянного продолжительным отступлением на всех фронтах. Ставка остепенилась. Настроение в ней сменилось деловой атмосферой и спокойствием. Спокойствие и уверенность в своих силах своим уравновешенным отношением и к людям, и к событиям на фронте дал государь. Вера в своего царя и в Благодать Божию над ним создала благоприятную атмосферу…
С этой мыслью и уже в более благодушном настроении Баташов возвратился в гостиницу. В номере было тепло и уютно. Мягкая постель с радостью приняла его уставшее тело. Лишь настойчивая мысль о заговоре союзников долго не давала заснуть. И только приняв окончательное решение – тайно понаблюдать за союзными военными агентами, он наконец-то смежил глаза и сразу же провалился в небытие. Под утро ему приснилась супруга Варвара Петровна, которая, держа в руках газету «Русский инвалид» с портретом Самодержца Российского и глядя в пустоту, вопрошала глухим, скорбным голосом: «Кто виноват? Кто виноват?»…
«Не к добру это», – подумал Баташов, проснувшись. Совершив свой туалет, он, сославшись на неважное самочувствие, на завтрак не явился. Генерал и в самом деле нехорошо себя чувствовал только от одной мысли о том, что там он может вновь лицезреть ненавистные физиономии надменных и довольных собою союзничков, многозначительно потирающих руки.
«Но дело прежде всего», – сказал он себе и, встретив в коридоре гостиницы рыжеусого британского майора, сдержанно ему улыбнулся и даже сделал комплимент его неувядаемой жизнерадостности. На что Джилрой с деланым восторгом поблагодарил генерала:
– Спасибо, сэр, вы тоже как всегда бодры и деятельны, несмотря ни на что.
– Русские не привыкли плакаться в жилетку, – сдержанно ответил Баташов с намеком.
– Жилетка – это есть одежда, я правильно понял?
Баташов кивнул.
– Но у меня, чтобы смахнуть слезы, есть платок, – майор вытащил из кармана шелковый белый платочек и недоуменно уставился на Баташова.
– Это такая русская поговорка, – пояснил генерал.
– О-о, я очень люблю русские пословицы и поговорки, – удовлетворенно воскликнул британец и, спрятав шелковый лоскуток, достал из нагрудного кармана записную книжку и что-то там записал.
– А знаете, завтра утром Его Величество прибывает из Царского Села в Ставку, – видимо, желая сделать что-то приятное генералу, сообщил он новость.
Это сообщение насторожило контрразведчика. Он знал, что император периодически оставляет Ставку, наведываясь в Царское Село для того, чтобы принимать послов и вершить государственные дела. Но о времени прибытия его в Могилев, могли знать только самые доверенные лица.
«Что это? Провокация или желание майора показать свою сверхосведомленность и вызвать меня на доверительный разговор? – мелькнула в голове мысль. – От такого можно ожидать всякого…»
– Государь волен появляться тогда, когда ему будет угодно, – неопределенно ответил генерал, натягивая на руки перчатки и давая этим понять, что разговор окончен.
– Сэр, прошу вас выслушать меня, – настойчиво промолвил британец, – я хочу сообщить вам о деле государственной важности.
– С государственными делами обращайтесь к Воейкову, – посоветовал Баташов.
– Сэр, я бы хотел, чтобы все, что я скажу, осталось в тайне, – неожиданно предложил Джилрой, заговорщицки оглянувшись по сторонам. В коридоре никого, кроме копошащейся невдалеке горничной, не было видно.
– Я слушаю вас, сэр.
– Вы знаете, откуда я узнал о приезде царя?
– Если хотите что-то сказать, то говорите, а не тяните кота за хвост, – с деланым раздражением в голосе промолвил Баташов.
– Мне по большому секрету сообщил об этом де Ля-Гиш, а он, в свою очередь, узнал об этом из телефонного разговора с генералом Амадом, который накануне был у императора на приеме в Царском Селе. От имени французского правительства он как руководитель военной миссии в России поздравлял Его Величество с награждением Георгиевским крестом…
– Ну сболтнул Ля-Гиш лишнего, что здесь такого? – пожал плечами генерал. – Французы любят прихвастнуть, – с деланым равнодушием добавил он.
– Но вы, как профессиональный разведчик, должны меня понять, сэр…
– Что я должен понять?
– Что все это неспроста. А если об этом узнают враги?
– Но я не могу допустить и мысли о предательстве нашего уважаемого союзника, – возмутился Баташов. – Как вам это могло прийти в голову?
Джилрой замялся, не зная, как реагировать на искреннее возмущение русского генерала.
– А вы знаете, что для того, чтобы Россия и не думала о сепаратном мире с немцами, французы готовы на все… – сделав вид, что сболтнул лишнее, осекся британец.
Баташов сознательно построил эту беседу так, чтобы выпытать у союзника больше того, что тот хотел ему сказать. И он не ошибся.
Взяв явно растерянного британца под локоток, он решительно повлек его к своему номеру и, только плотно притворив за собой дверь, грозно вопросил:
– О каком это сепаратном мире вы говорите, сэр?
– Сэр, я рассказал вам лишь о том, что сказал мне накануне Ля-Гиш, – нерешительно пролепетал Джилрой, – больше я ничего не знаю.
– Но, сэр, я знаю вас, как истинного друга России и джентльмена, – подсластил пилюлю контрразведчик, – и поэтому хочу услышать от вас правду и ничего, кроме правды.
Поняв, что так просто генерал его из номера не выпустит, Джилрой, задумчиво покручивая свои пышные рыжие усы, кисло улыбнулся.
– Сэр, от Ля-Гиша я узнал, что перед отъездом в Ставку он получал инструктаж от своего генерала Амада, который и сообщил ему, что по инициативе немцев идет тайная переписка с людьми, близкими к императору. В подтверждение этому Амад ознакомил его с содержанием письма императрицы к своему брату великому герцогу Эрнсту Людвигу Гессенскому, в котором она просит его решить с Вильгельмом вопрос о необходимости гуманного отношения к русским военнопленным и в то же время намекает на стремлении России к миру и даже предлагает ему стать посланником мира. Амад дал указание Ля-Гишу настраивать офицеров Ставки на войну до победного конца и всячески препятствовать возможным сепаратным переговорам. Поэтому действия француза сегодня трудно предсказать…
– Возможно, Амад через Ля-Гиша просто хотел ввести вас в заблуждение, как ввел в заблуждение командующего десантной операцией в Дарданеллах генерала Гамильтона, завысив боевые возможности своих сил и средств.
– Вы имеете в виду нашу безрезультативную высадку в Галлиполи?
– Именно это я и имею в виду, – ответил Баташов. – Хотя, анализируя ход этого кровавого сражения, можно с полной уверенностью сказать, что и Гамильтон не без греха, ибо подготовил операцию наспех.
– Мне трудно судить о военной стороне дела, – задумчиво изрек майор, – но я с уверенностью могу сказать, что в отличие от сухопутной агентурной составляющей морская разведка была поставлена там из рук вон плохо. Я слышал, что Ставка готовит в Дарданеллах свою десантную операцию. Будучи в Одессе, я видел, как солдаты тренируются в посадке на транспорты и корабли…
– Возможно, – многозначительно взглянув на британца, промолвил Баташов. – Только вы перепутали восток на запад.
– Неужели идет подготовка к выводу из войны Болгарии? – обрадованно воскликнул Джилрой. – Надеюсь, что это вскоре поубавит пыл не только болгар, но и немцев.
– Возможно, – неопределенно ответил генерал, – но меня сегодня больше волнует, насколько достоверна информация о так называемых сепаратных переговорах.
– Других данных у меня нет, сэр – с вызовом отрезал майор, то ли от злости на себя, то ли от вырвавшейся внезапно лжи наливаясь кровью.
– А вы, оказывается, не джентльмен, сэр, – бросил Баташов в лицо Джилроя обидные для любого англичанина слова.
– Вы задели мою честь, сэр! – взревел британец. – Такие слова смываются только кровью!
– А я не буду с вами драться, – с деланым равнодушием ответил генерал, – потому что вы еще лет двадцать назад лишились своей офицерской чести.
Ошарашенный больше спокойным тоном, которым были произнесены эти страшные слова, чем самим фактом, британец побагровел. Казалось, еще минута – и его хватит апоплексический удар.
Баташов подвинул стоящее рядом кресло, и майор обессиленно рухнул на мягкую кожаную подушку.
– Выпейте воды, – генерал подал Джилрою стакан содовой.
Тот судорожно его схватил и несколькими глотками осушил полностью. И только после этого вперил свой ненавидящий и в то же время обескураженный взгляд в лицо русского генерала.
– Двадцать лет назад я служил в Индии, – недоуменно провозгласил он, – в России я в то время не был.
– А вы вспомните княжество Читрал, высокогорную крепость и то, как вы, поклявшись Аллахом, направили мой экспедиционный отряд по самому короткому пути в Кашмир, а на самом деле кинули нас в ад. Я понимаю, что на Памире мы находились по разные стороны баррикад в вашей большой игре, но тем не менее я да и никто другой из русских офицеров не стали бы поступаться своей честью, с тем, чтобы отправить на погибель целую экспедицию. Из-за того, что вы заранее предупредили британского агента в Кашмире, чтобы он не выдавал нам разрешения для прохода по территории этого княжества, экспедиционному отряду пришлось преодолевать высокогорную пустыню, где от холода и голода погибли люди. Только части отряда удалось достичь Туркестана. Высочайшим именем было проведено расследование. Вердикт следственной комиссией был вынесен суровый, но справедливый: в случае появления вас и вашего сообщника в Кашмире на территории Российской империи, вы непременно будете привлечены к суду. Ваше счастье, что я еще не успел обнародовать этот убийственный факт вашей биографии. Но, если вы и дальше будете молчать, мне придется сообщить о вашей неблаговидной роли, чуть ли не приведшей к гибели военной экспедиции, государю, и тогда меньшее, что вас ожидает, это позорное увольнение из армии, без пенсии и пособия. Вам все понятно, сэр?