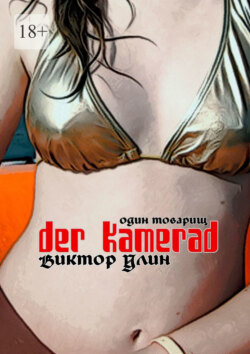Читать книгу Der Kamerad. Один товарищ - Виктор Улин - Страница 5
III
Оглавление«Гут»…
Со стороны, конечно, все выглядело гут.
Да и черт со всем этим, – подумал я.
В наше время человек должен хранить маску благополучия. Иначе его просто сметут и затопчут. Все, от первого до последнего сверху донизу – и даже добрый турок Шариф перестанет выдавать лучшие зонтики, сунет нераскладывающийся или рваный.
Я потянулся.
Передо мной вспыхивали и гасли белые буруны прибоя. Дальше простиралось море – пустое, без парусов, без единого катера. И далеко-далеко, почти теряя цвет, соединялось с тоскливым горизонтом.
«Тоскливый горизонт», сравнение показалось мне слишком радикальным.
Тоскливый горизонт – тоскливый конец моря, соединенный с тоскливым, скорее серым, нежели голубым, небом. Почему-то в этих краях по утрам оно никогда не бывало чистым, даже солнце смотрело сквозь оползающие с гор серые облака. И еще, как ни странно, за все дни я не видел тут ни одной чайки.
Тоскливое море.
Тоскливый день рождения, из-за которого все кругом казалось таким серым и неуютным.
Дни рождения ущемляют самолюбие. Особенно по утрам…
Но, наверное, я все-таки мог постепенно прийти в себя. Ведь чем меньше самолюбия имеет человек, тем большего он стоит.
Я понял это с некоторых пор и то могло утешать. С другой стороны, если человек чего-то стоит, значит он уже стал как бы памятником самому себе. Это казалось мне утомительным и скучным.
И напоминало тех моих бывших друзей, пузатых сверстников, которые в любой момент были готовы лопнуть от самодостаточности, самодовольства и самолюбия, распирающих изнутри. Хотя они в самом деле являлись куда более счастливыми, нежели я; не мог не быть перманентно счастлив полный дурак, не видящий дальше своего пивного живота и телевизора с футболом.
Я знал себе цену и у меня уже не осталось самолюбия.
Но все-таки, несмотря ни на что мне было ужасно тоскливо встречать собственный день рождения в пустоте и одиночестве, даже если для меня он превратился в траурную дату…
Ведь кто бы что бы ни говорил, два праздника в году – новый год и день рождения – обладали некоей двойственностью.
Умом я понимал, что стар и неуспешен, что мне нечего отмечать в эти даты. И по большому счету, давно мечтал о календаре, в котором 30 декабря сменялось бы первым января, а 21-е июля – 23-м. Но…
Но в то же время какое-то детство, не вытравленное, не затоптанное, не выжженное до конца, коварно жаждало праздника. Ждало чуда, перемен, внезапного света, особенно в день рождения. Ждало хороших слов и подарков.
Да, и подарков тоже, хотя я давным-давно стал равнодушен к вещам.
По крайней мере к таким, которые мне оставались доступными; ведь глупо было мечтать, что мне подарят самолет. Или хотя бы бумажник из крокодиловой кожи.
День рождения не только без подарков, но и без поздравлений – наверное, этот вариант был самым достойным для такого человека, как я.
Хоть я сам себе его устроил.
Я не взял с собой мобильный телефон: роуминг обошелся бы слишком дорого; кроме того я собрался полностью отключиться от российских дел. Можно было, конечно, позвонить домой из уличного пункта, чтоб жена меня поздравила. Но это казалось чем-то совсем уж глупым. Звонить самому, чтобы тебя поздравили, было несерьезно.
Когда я уезжал, жена сказала, что заранее поздравляет с наступающим днем рождения и желает, чтобы в этот день я не напивался до смерти. Это было полностью законченным вариантом и не требовало повторения.
* * *
Пляж оставался пустым.
Народ все еще завтракал.
И Шариф еще не открыл свой железный склад, поскольку пока было некому выдавать ни матрасы, ни зонтики.
Солнце, хоть и не слишком заметное, все-таки оставалось южным, а загорать я не любил. На мой взгляд, в наше время загар стал признаком принадлежности к определенному кругу людей, которые могут в любое время поехать на теплое море и зажарить себя до состояния тоста – и тем самым словно напоминают остальным о своей успешности. Такие мне были противны даже в лучшие периоды жизни, а уж сейчас я не желал уподобляться им даже раз в год. Кроме того, с детства не выносил жары, ни зноя, потому тут всегда сидел в тени.
Без зонтика солнце начало утомлять, пора было охладиться.
Я встал и пошел к берегу.
Песок качался под моими ногами.
* * *
Ему было с чего качаться.
Вчерашний вечер прошел богато.
Впрочем, как и все предыдущие.
И как, я надеялся, предстояло пройти всем оставшимся.
Хотя не знавший меня, сказал бы, что «вчера было что-то».
Сначала, сразу после ужина, я сидел перед эстрадой. Точнее, мы сидели втроем, собутыльниками были мои ровесники, русский мужичок Саша и веселый грузный поляк Кристиан – с непольским ударением на первый слог в имени. Последний едва говорил по-немецки, все время пытаясь переходить на чудовищный русский, но это не мешало нам с четкой периодичностью наполнять и опустошать стаканы.
Впрочем нет, сидели мы не втроем, а вчетвером. При Саше, приехавшем сюда, подобно мне, в одиночестве, постоянно находилась красивая кореянка, чьего имени я так и не узнал. Не туристка из Кореи – русская азиатка, каких в России была тьма, он подцепил ее тут на второй день. И теперь сокрушался, что завтра ему придется уезжать и они расстанутся навсегда. Но до вчерашнего вечера Саша был счастлив: на курорте ему удалось реализовать мечту любого нормального мужчины. Последняя заключалась в том, чтобы в нужной ситуации найти нужное тело, причем ровно на нужный период времени, ни меньше, но и не больше. Сашу не напрягало даже то, что кореянка не позволяла ему всерьез пить – разрешала лишь полстакана водки вечером, в компании нас с Кристианом..
На самом деле, удайся мне затащить к себе в постель такую кореянку – или немку, украинку, турчанку, кого угодно… – то и я бы покончил с пьянством. Ведь, по большому счету, алкоголь есть лишь универсальная замена всему остальному, недополученному в жизни.
Женщинам в том числе.
Да, женщинам, чтоб им всем провалиться до центра Земли! Кое-кто, прочитав мои мысли и не найдя тревог за судьбы мира, назвал бы меня ничтожным скотом. Но что могло радовать меня – не имевшего простых страстей, не любившего своей работы… и уже ее потерявшего – кроме любви к женщинам как единственной оставшейся сущности?
Смыслом бытия остались женщины. Все равно какие, поскольку интересующее имелось у любой и сильным разнообразием не отличалось.
Правда, сейчас женщин мне заменила выпивка.
Но рассуждать о сущностях не имело смысла, я просто вспомнил вчерашний вечер.
В общем, сначала мы посидели вчетвером, Саша оприходовал свои сто пятьдесят, за Кристианом я не следил, кореянка пила колу. Я неторопливо влил две полных порции бренди в дополнение к трем, недавно принятым за ужином. А если посчитать всю вчерашнюю дозу, то получалось, что начал я – вернувшись на территорию после утреннего купания – с двух стаканов, выпитых прямо в бассейне. Потом за обедом употребил еще два. За ужином – три. То есть на старте вечернего забега во мне было уже семь стаканов отличного турецкого бренди. И даже с учетом того, что в посуду никогда не наполняли до краев, получалось больше литра.
И, тем не менее, я был жив и находился в неплохом настроении.
Пока на сцене шла традиционная в этом семейном отеле детская дискотека – нечто вроде вечернего утренника – я выпил еще два стакана.
Потом началась дискотека для взрослых, такие шли через день, чередуясь с каким-нибудь шоу.
С ее началом Саша и кореянка молча поднялись; предстоящая ночь была у них последней, я бы тоже использовал ее по максимуму. А мы с Кристианом, не любя слишком громкой музыки, переместились на лужайку между старым и новым корпусами, где примостился «нижний» отельный бар, окруженный редкими бананами, чьи листья задумчиво шелестели на ветру.
Там, уже без женского взора – непроизвольно контролировавшего любое движение в сторону спиртного – мы добавили. Потом еще раз и еще.
Через некоторое время к нам присоединились две пары блаженных лет середины третьего десятка, приехавшие из Роттердама.
С голландцами я познакомился в первый вечер именно здесь, они жили в «Романике» уже несколько дней и любили банановый бар больше всех прочих мест, благодаря им полюбил уголок и я. И все часы от после ужина до отхода ко сну проводил тут, медленно наливаясь бренди. Сидел и сидел, лишь изредка поднимался, чтобы прошагать вверх вниз по «полуэтажному» переходу в арке старого корпуса – к эстраде, где мог наполнить чашечку в автомате. Ведь мой организм ощущал себя в полных эмпиреях, когда вкрадчивые ласки алкоголя перемежались ударами кофеина.
Около этого бара и в самом деле было очень уютно среди сумрачных банановых зарослей. К тому же там стояли прочные деревянные столы на железных ножках и такие же диванчики; жесткость конструкции позволяла пить без предела – совсем не так, как у бассейна перед эстрадой, где с шаткой пластиковой мебели, рано или поздно, можно было чебуртыхнуться головой о плитку. Голландцы пили несерьезно: брали сомнительной крепости коктейли из водки с тоником и уходили спать рано, не позже часа ночи. Но все равно мне было с ними хорошо. Даже не просто, а очень, очень хорошо. Никогда прежде не знав ни одного голландца, я даже не подозревал, что это такие легкие, веселые и добрые люди.
Вот и вчера, устроившись под бананами, мы продолжили ежевечернюю попойку вшестером.
Наша компания на посторонний взгляд показалась бы комичной. Противоположностями смотрелись изрядно пузатый Кристиан и голландец Дик – подтянутый, расписанный татуировками, словно герой американского боевика. Его подружка Симона – черноволосая и коренастая – словно сошла с картины Вермеера и казалась мне истинной голландкой, каких до знакомства с нею я представлял себе теоретически. Вторая девушка, Лаура, была иной: тонкой, белокурой и очень высокой; рядом с ней ощущал низкорослым даже я, природой не обделенный. Лаура казалась этаким гибким золотоволосым, голубоглазым почти готическим ангелом с нежной улыбкой, которую не портили сверкающие брэкеты на верхних зубах. Ее парень, совсем молодой мальчишка Хербен, был длинным, тощим до невозможности и склонялся на ветру сильнее, чем банан за его спиной. Забаву наших вечеров дополнял тот факт, что из человеческих языков Дик с Симоной более-менее знали немецкий, но Хербен и Лаура говорили только по-английски, в котором Кристиан был ни в зуб ногой. И в наших пьяных беседах я служил переводчиком: с английского на немецкий, тут же в обратную сторону, а иногда в обе одновременно.
Мы сидели и пили, обнимались и клялись друг другу в вечной любви на разных языках, пока за Кристианом не пришла жена – усталая худая женщина по имени Хелена, упорно считавшая меня немцем. Она каждый вечер давала своему мужу определенный промежуток свободы, потом уводила спать. Так было и вчера: Кристиан, осознав свою ошибку, молча повиновался, встал и поплелся прочь, подталкиваемый в спину мрачным Хелениным взглядом.
А мы остались впятером.
Сколько я выпил с голландцами, не было смысла вспоминать: по достижении некоторой дозы один или два лишних стакана уже не играли никакой роли в результате. Однако, вероятно, я добавил еще порции четыре. Воспользовавшись уходом Кристиана, я учил голландцев ругаться по-польски. Лаура была яростной противницей сквернословия и всегда поднимала палец, начисляя штрафное очко, когда у меня вырывалось английское ругательство, благо понимала только их. Последнее шло мне на пользу, поскольку убогие британцы, не знающие ничего кроме «бастардов», задыхались рядом с сочными пищеварительными оборотами немецкого образца. Польские пришлись по вкусу всем, поскольку «холера ясна» я произносил очень ласковым тоном – не говорил, а выдыхал, как в нежное ушко любимой женщины.
Я умел скверно выражаться на неисчислимом количестве языков, включая идиш и татарский.
Но мне не хотелось портить славных ребят слишком сильно, поэтому я сдерживал лексикон в рамках трех.
Обычно на определенной стадии вечеринки меня просили спеть. Петь я умел и любил не меньше, чем пить; хотя два процесса всегда видел параллельными. Голландцы любили русские песни, всегда поддерживали меня, довольно ловко имитируя непонятные звуки.
После нескольких романсов моих друзей из страны сыра и тюльпанов заинтересовало другое – им позарез захотелось пить наравне со мной.
Эту попытку они совершали каждый вечер, почти сразу сходили с дистанции, но повторяли вновь и вновь, надеясь на второе дыхание. Вчера, делая страшные глаза и ужасаясь, все четверо проглотили по стакану чистого бренди, запив его пивом, которое зачем-то приносили с собой из города, хотя в отеле им можно было разжиться почти круглые сутки. Это пиво, в марках которого я не разбирался, живя по принципу «меньше, но крепче», их вероятно, и добило.
В половине первого голландцы были никакими. Мы оттолкнулись от столика все одновременно, я поочередно шатнулся к каждому: сладко поцеловался с девушками, крепко обнялся с парнями.
Потом они схватились друг за друга и, напевая невнятную песню на языке, вряд ли понятному им самим, пошли спать.
Жили они в новом корпусе, его отделяли от бара десять шагов, которые, даже выпив-таки наравне со мной, они бы одолели на локтях.
А я, не присаживаясь обратно, подтянул полосатые шорты, одернул черную футболку и, шагая почти прямо, отправился в ночной бар на крышу своего корпуса – старого, похожего на небольшой, но океанский пароход.
Этот уютный уголок, единственный в семейном отеле, функционировал до утра и служил туркам средством получения дополнительных денег: здесь предлагались напитки иностранного производства, которые облагались пошлиной и не входили в систему «All inclusive». Поднимались сюда в основном богатые русские, любившие по ночам пить залпом французский коньяк V.S.O.P. или шотландское виски из Англии. По всем этим напиткам и по липкому пойлу «бейлиз», бар работал for cash, то есть за наличные деньги, но для массового привлечения посетителей имелись бесплатные бутылки и пара фальшивых бочек с порошковыми винами, какие стояли в остальных барах.
Однако и платные бутылки радовали самим фактом своего существования.
Ведь нельзя выпить все спиртное на свете, равно как нельзя поиметь всех женщин в поле зрения. Причем не по вторичным причинам, а из-за нехватки времени.
Но, тем не менее, даже в былые годы, сидя где-нибудь со спутницей, опустив руку под стол и исследуя кружевные края ее трусиков, я продолжал смотреть на других женщин, оказавшихся поблизости; обладание одной не умаляло удовольствия разглядывать других.
Более того, процесс наполнял и реальное обладание особой глубиной, ведь человек, выросший из обезьяны, изначально был существом полигамным, лишь оковы морали не позволили индивидууму наслаждаться количественно в той мере, какую требовала природа.
Живи человечество по принципу «каждый с каждой, все со всеми», в мире не было бы ни зависти, ни злобы, ни даже войн…
То же самое я ощущал в отношении выпивки и потому любил ночное заведение «Романика».
Сама здешняя атмосфера казалась мне иной.
В баре золотисто отсвечивал коньяк, джин переливался, как аквамарин, а ром был как сама жизнь. Словно налитый свинцом, я недвижно восседал за стойкой. Плескалась какая-то музыка, и бытие мое было светлым и сильным. Оно мощно разлилось в моей груди, я позабыл про ожидавшую меня через несколько дней беспросветную жизнь в России, забыл отчаяние своего существования, безработицу и грядущую нищету, и стойка бара преобразилась в капитанский мостик корабля жизни, на котором я шумно врывался в будущее.
К счастью, бренди здесь не переводилось и ночные бармены любили меня не меньше дневных; один за другим я принял еще три стакана.
И только после этого пошел спать.
* * *
Ступив на кромку прибоя, я остановился.
По утрам вода Аланийского побережья никогда не бывала теплой.
Я не отличался любовью к моржовым купаниям, но сейчас оно являлось жизненно необходимым.
Оно могло помочь мне еще раз послать к черту этот свой день рождения.
Мой купальный наряд выглядел радикально: держался на шнурке, а причинное место было украшено шевронами из фосфоресцирующего материала, хотя мне всегда казалось, что в темноте нормальные люди обходятся без плавок.
Шнурок отличался коварством: однажды я смаху бросился в волны, а трусы остались на поверхности, радуя всех, кто это видел. Впрочем, этого не видел, кажется, никто. Да и видеть было нечего, я нырял лицом вниз. Да если бы и увидел, то вряд ли восхитился, будучи женщиной – или позавидовал, будучи мужчиной.
Но все-таки теперь перед каждым рывком в воду я на всякий случай подтягивал узел на животе.
Справившись с плавками, я прошел метров двадцать влево от границы нашего пляжа. На траверсе соседнего отеля дно всерьез чистили от камней, спуск в воду не сопрягался с риском остаться без ног и, поскольку охрана за сопредельными территориями не следила, я старался купаться именно там. Особенно когда не слишком твердо стоял на ногах.
Правда, умным был не один я; днем там оказывалось некуда ступить от тех, кто тоже искал приемлемые места для купания. Но сейчас еще дрожало утро и море оставалось почти пустынным.
Я оглянулся, точно кто-то мог меня увидеть, броситься на шею, наговорить кучу нежных слов и оттащить подальше от воды. Но броситься никто даже не подумал, хотя на песке вроде бы валялись какие-то женщины. Вздохнув, я зашел в море по колено, накат ожег мне ноги.
Высшим проявлением воли я видел медленное вхождение в ледяную воду. Шаг за шагом, остужаясь сантиметр за сантиметром.
Но я никогда не считал себя излишне волевым человеком.
– Du Scheisse…
Ругательство вырвалось с тихим отчаянием.
В том, что я бранился на языке Гёльдерлина, не было ничего странного; в Турции я всегда был немцем. Не просто говорил по-немецки, а именно им был, оставляя русскую сущность за красной линией в аэропорту.
Одевался, как немец, вел себя, как немец, сам себя считал немцем – сумрачная Хелена не сильно ошибалась в моем видоопределении.
Я малодушно остановился. Больше всего мне хотелось сделать шаг назад. Вернуться в отель, подождать пока откроется бар у бананов и влить в себя пол-литра жизни, а уж потом идти в это чертово ледяное море.
– …Die Katzendrecke!
Это относилось уже ко мне самому.
Задержав дыхание, я плюхнулся на живот – едва не потеряв сознание от холода – и поплыл, разводя руками волну.
Море напоминало вытрезвитель.
То есть было именно тем, что требовалось.
Оно мгновенно смыло мысли о жизни.
И я, кажется, стал возвращаться в обычное состояние.