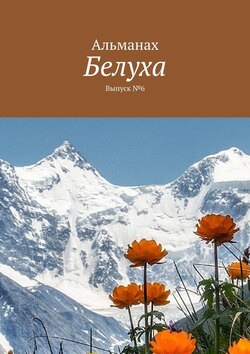Читать книгу Белуха. Выпуск № 6 - Виктор Васильевич Свинаренко - Страница 5
ЧАСТЬ 1. ПРОЗА СОВРЕМЕННЫХ АВТОРОВ
Летальный исход
(хроника одной деревни)
ОглавлениеВсе в деревне знали, что мать Богдана – ведьма. Даже выпившие казаки, идучи лунной ночью до своих хат мимо двора Дрогоновых, украдкой крестили распахнутые рубахи и нервно сплёвывали через лево:
– Тьфу ты! Бисиха!
А уж бабы – те седьмой дорогой обходили дом Нины Ильиничны, да строго настрого наказывали малым деткам не носиться весёлой оравою мимо злополучного плетня и ни в коем случае не рвать огромные розовые ягоды со старой шелковицы у его закраины. Много чего говорили…
Старый пьяница Филимон рассказывал, что однажды отведал «чёртовых ягод».
– Вертался я, значит, от мужиков. Шёл, прямо сказать, в драбадан. И вот напасть, пять дворов осталось, а мне до ветру надо – из глаз брызжет. А у Куцего ж ещё фонарь свитэ, нигде и в ночь тени нет. Смотрю, у Дрогоновых под шелковницей глаз выколи, тьма. Ну, я и завернул. Прислонился к дереву. Стою я эдак, дела делаю, медовые ягоды с тёплой земли пахнут – благодать… А на дереве! Тута спелая, аж красная, а длиной – шо мой палец! Во! От, думаю, щас ангелом в брюхе пролетит. Только я к одной ягоде потянулся, только сорвал, к глазам поднёс, а там… Червь жирный, сморщенный, весь в кровавых прожилках, в руке извивается. Отбросил я его, чертыхнувшись, голову поднял… Ой, ма! Всё дерево копошиться як пчелиный улей. Только Сатана мне секунду передышки дал всё рассмотреть, как эта дрянь гуртом на меня сверху посыпалась! И на голову, и в рот, и за шиворот! И валится эта содомия потоком, не кончается! Я отбиваюсь от гусениц тех, попятился, да как ухну! Как в топь провалился. Руками землю скребу, а там везде черви! И сверху валятся! По грудь ушёл! Смотрю – а я в этих «шелковницах» и тону! Ноги в жижу гусеничную уходят, сверху присыпает. Только я рот открыл: «Да поможить!…», так червяки в пасть нападали. Я мычу, рвусь, насилу отплевался, взмолился: «Господи Иисусе Христе, распятый на кресте! Не дай загибнуть без покаяния в логове диавольском! Спаси помилуй!»…
Очнулся я, лежу, как стекло трезвый, в куче листьев да прелых ягод. Исчезло наваждение. А Ильинична надо мной стоит, улыбается: «Ну как, – говорит, – вкусная тута у меня?».
Филимон, конечно, человеком был пропащим. Мало ли что наболтать мог. Но вот о парубке Петрусе история звучала печальнее. Его мать рассказывала коротко, без приукрас. Раз на Святки он схватил старую голову Коляды и, прилаживая внутрь свечку, сказал хмельному отцу—де, пойду Бисиху до смерти напугаю! Время шло к полуночи, Петруся всё не было. Вдруг на дворе скрипнула калитка и стали различимы тяжёлые шаркающие шаги. Мать открыла дверь и бросилась навстречу. В тусклых бликах свечи, которые мерцали из косматой головы в руках Петруся, можно было разобрать его мертвенно бледное лицо, неестественно выпученные глаза и абсолютно мучные волосы. Он протянул матери Коляду и слабым голосом прошептал:
– Мамочка… как страшно… я не… я не могу… просто не могу… так страшно…
И упал замертво.
Но время шло. Истории забывались. Уже никто толком и не боялся престарелую Дрогонову. И так бы она и сгинула бесславно да беззлобно, если бы сын её не встретил своей любви. Олеся ещё была так юна, когда тридцатилетний, красивый и статный Богдан стал ухаживать за нею. Эта любовь разгорелась со случайной искры, с мимолётного взгляда, но ей суждено было разжечь страшный пожар. Цветы и поцелуи под луной у Богдана длились недолго. Олесе может ещё и хотелось недосказанности и томных ужимок, но Богдан сказал через месяц:
– Душа моя. Нет у меня с детства ни братьев, ни друзей. Не нужен в этой жизни ворох случайных встреч. А человека ищу я одного, чтоб был мне и брат, и сват, и друг, и жена. Пойдёшь ли за меня, любовь моя, не нагулявшись?
– Пойду, – только-то и смогла вымолвить оторопелая девушка.
Богдан заранее предвидел реакцию матери. Раз утром он крепко обнял её и, не отпуская, сказал:
– Вечером, матушка, к нам придёт моя невеста. Хочешь ты, нет ли, – придётся тебе её впустить и принять, потому как мы с ней уже никак неотделимы. Или внук будет у тебя, или не будет сына.
Что тут устроила Нина Ильинична! Громила хату, таскала сына за волосы, орала благим матом, осколки и черепки разлетались до соседней улицы. Богдан думал, удар у неё сделается. Чуть успокоившись, схватила Бисиха нож и сказала:
– Раз уж у нас ТАКИЕ гости ожидаются – пойду скотину забью!
Вышла она во двор, взяла единственного неубойного кабана за задние копыта, махом перевернула на спину и разрезала ему, живому, брюхо от лап и до лап…
…
Не говорила Олеся ни отцу, ни матери, что уже месяц вечерами к Богдану бегает. Вот три дня назад лишь сказала, так мать все три дня эти проплакала, и отец глаз не сомкнул. А сегодня идти к Дрогоновым… одной.
Оставалось ещё два часа, а девушка была уже вся наряжена, напомажена, причёсана, и до чего ж хороша! А мать рыдает всё над нею, как над покойницей. В дверь постучали. Забежали весёлые Олесины подружки, стали звать на посиделки, а она тут и рада была из дома улизнуть. Всё развеяться веселее. И мать не нервировать. Шли они к каждодневному месту сбора – к заброшенному двору Лесченковых. На старых брёвнах, покрытых соломой, собралась уже добрая дюжина девчат. Олеся—то по большому секрету рассказала за Богдана Нюре, а та возьми да и расскажи Тамарке, а та – Галке, а Галка, как говорится, на хвосте уже всему свету разнесла. Смеются девчата, потешаются, истории о будущей Олесиной семейной жизни сочиняют. Печаль её как рукой сняло.
Но вдруг что-то зашипело под поленьями. Все повскакивали в потёмках, и на солому запрыгнул огромный чёрный кот с львиной гривою и стал светить по сторонам зелёными углями глаз.
– Та, что б тебя! Напугал.
– Девки, гля, а пушистый какой! Я у нас такого ещё не видела…
– Хороший. Дай поглажу! Кис—кис—кис…
И кот легко дался, стали девушки его гладить чесать, а тот мурлыкать. Мурлычет, урчит, да всё на Олесю глаз щурит.
– А ты что ж одна его не гладишь? Да знаешь, какой мягкий? Вон и ему даже обидно стало.
Подошла Олеся. Боязно ей стало. Протянула она дрожащую руку и только раз провела по чёрному загривку – сноп искр рассыпался из шерсти звёздным веером по соломе, та вспыхнула, и девчата с криками ужаса стали разбегаться кто куда. Олеся стояла как вкопанная. Одна. Горела уже вся поленница и старый дом Лесченковых. Вдруг такой холод полоснул по сердцу, что бросилась она не разбирая дороги по тёмной улице. Бежит, от страху не жива, и чудится ей, что кто-то там, в темноте, по пятам нагоняет. Бежит Олеся, ужас давит грудь – не вскрикнуть. Впереди первые фонари на поселковой дороге светят. Поняла она, что от страха деваться некуда, добежала до горящего фонаря и обернулась…
Столбы, которые она миновала, не горят. И от неё свет недалече разливается. Никого за ней нет… Только сердечко у бедной девушки чуть стихло, смотрит, впотьмах еле различимо, старушечий силуэт за третий от неё столб прячется. Сердце в пятки ушло… А тело вывалилось от столба с другой стороны навзничь, ударилось – и бежит на неё огромный чёрный вепрь с горящими глазами!
Бросилась Олеся по улице к родному дому. Тут уже кричать стала, что сил было. Бежит она, никто во двор не выйдет, а за спиной жуткий визг, рык, хрюканье. Стучат копыта, несётся взбешённый зверь. Пролетела она уже второй перекрёсток, а зверь всё ближе, уже в ноги его яростное дыхание. Свернула Олеся к родному плетню. Открыта калитка! Забежала, оглянулась. Стоит чёрный заросший кабан у распахнутой приворотки, землю нюхает. Посмотрел на девушку исподлобья и пошёл вкруг забора, рыча. Сопит где—то за оградой. Вошла Олеся в дом. Лица на ней нет. Не дышит почти. Сама ревёт, мать ревёт, так всю ночь и проплакали.
Наутро до них пришёл Богдан. Стал спрашивать, отчего ж невеста его вчера не явилась. Олеся долго молчала, прикрывала заплаканные глаза, а потом её словно прорвало, всё рассказала ему, ревела, кричала, что не будет у них счастья, сведёт Бисиха её в могилу…
Рассвирепевший Богдан вернулся домой, стал собирать вещи. В дверях обозначилась тучная статуя его матери. Она вытирала обе руки попеременно то о передник, то о перекинутое на шее полотенце. Её прищуренный взгляд полоснул сына по спине.
– Что сталося, сынок? Куда вещи собираешь?
– Уходим, матушка, к сестре твоей. Говорит моя молодая, не дашь ты нам жизни спокойной.
Глаза у Дрогоновой вспыхнули, губы поджались, но голос исполнился наливного мёду.
– Что же ты, Богдан, такое говоришь? На ЧТО мне намёк делаешь? Уж не хочешь ли сказать, что я… Это она вчера не пришла, а мы ждали её, мы приготовились, сыночек… Мы даже…
– Теперь, мама, мы – будет я и моя жена. А тебя там не предусмотрено.
Длинные, ещё смолянисто—чёрные, но уже с проседью, волосы Нины Ильиничны будто вздыбились в дверном проёме. Лицо её налилось багровой кровью, а нижняя челюсть неестественно выехала. Страшный крик оглушил Богдана.
– Нет на то моего благословения!.. И согласия нету!.. Прокляну!.. Поперёк матери!.. Паскудник!..
И снова полетели стёкла, осколки, утварь… Дрогонова неистовствовала до поздней ночи. А Богдан ушёл.
Сыграли скромную свадьбу и полгода прожили в тихом счастии. Только после стали замечать, что тёткина скотина мрёт каждую неделю. Куры перестали нести яйца. Корова родила единственного мёртвого телёнка, а вскоре и совсем перестала доиться. Оставаясь одна, Олеся в грустной задумчивости гладила своей плоский живот… Нет, уже пора бы! Не может всего этого быть на ровном месте. Пошла она в хлев, стала на колени и пристально оглядела коровье вымя. Руки её похолодели, а в каштановых волосах на затылке словно веточкой кто поводит. Снизу вымя было покрыто страшными укусами с кровавыми подтёками, всё иссиня—черное.
Девушка вышла из хлева, тихо сползла спиной по его стене и горько заплакала. Вскоре подошла тётка, стала успокаивать, и Олеся всё ей рассказала.
– Послушай, тут слезами не поможешь. Тот, кто нам это делает, слезами нашими как раз и сыт. Нужно нам на Хортицу идти. Я знаю, где там живёт одна знахарка. Может совет даст, или хоть скажет – кто?..
Тут они обе выразительно посмотрели друг другу в глаза, но смолчали. Через минуту Олеся стала торопливо утираться.
– Спасибо, тётя Шура. Только я сама должна туда пойти. Точно. Расскажите, пожалуйста, как можно подробнее, чтоб я ещё не заплутала…
…Олеся уже миновала мост через Реку. Началась аллея вековых акаций. Стручки позёмным эхом гулко и далеко хрустели под ногами. В конце покатой дороги стал виден рассохшийся деревянный домик.
Старуха только и сделала, что понюхала Олесину голову да перелила плавленый сотни раз воск из одной закопчённой кастрюльки в другую перед её лицом.
– Тебе перевертень делает. А кто – сама дознаешься. В четверг поутру произнеси эту молитву, да поди в коровник. Выдои самую каплю на сковороду, неси на плиту. Жарь, да читай то же…
Через три дня рано утром Олеся была в хлеву. И так и этак коровку уговаривает, та переминается, а ни капли молока нет. Стала девушка сызнова молитву читать. Нажала посильнее – брызнули на сковородку три капельки крови. И лишь зашипели они над раскалённым железом, со двора послышался крик. Олеся вышла.
Свекровь её бегала вкруг плетня, корчилась, хваталась за изгородь, повисая на ней…
– Ой, не жарь, дурра! Ааа… Не жарь…
Хотела девушка побежать снять с плиты проклятую сковороду, Дрогонова замерла в проёме открытой калитки, упала на колени. И её стало неудержимо рвать молоком…
…
Через год, когда Олесин живот приятно округлился, до Богдана дошли неутешительные слухи. Стоя в комнате матери, он наблюдал её запутанные грязные волосы, впалые глаза на исхудалом жёлтом лице. В пространстве дома висела легчайшая пыль, поддеваемая тонкими лучами света. Словно время остановилось.
– Подойди, – прошептала мать. – Не долго мне остаётся, дай хоть на вас посмотреть, прости ты меня…
…
Раз Олеся кончила кормить свекровь, и уже хотела идти, но та слабым поднятием руки остановила её. Старуха ничего не говорила. Она помигала печальными сухими глазами и стала тянуть длинные крючковатые пальцы с огромными ногтями к её животу. Девушка мгновенно отпрянула, и рука мягко легла на её бедро. Дрогонова посмотрела с укоризной и отвернулась.
После того каждую темноту Олесе стало мерещиться чьё-то присутствие. Будто край глаза видел мелькавшую костлявую тень с неестественно вывернутыми членами. Рассказала она подруге, думала, утешет, а та, побледнев, сказала, что прошлой ночью ей почудилась ровно такая тень, перебежавшая дорогу в Олесин сад. Вторая волна страха, пуще прежней, накрыла бедную девушку. Целую неделю Нина Ильинична надрывным шёпотом просила Богдана позвать к ней жену. А через неделю Олеся заметила, что её левая нога стала сохнуть.
…
…И вот снова позади вековые деревья и ветхий мост. Олеся рассказала бабке всё как на духу. Немного подумав, та отвечала:
– Не может ведьма умереть, не передав кому своих грехов. За тобой уже её нечистый ходит, это она его приманивает. Слушай же, как быть…
Нине Ильиничне стало совсем невмоготу, она постоянно стонала, слабо корчилась в ужасающих гримасах уже месяц. Олеся собрала оставшиеся силы в кулак и взяла мужа за лицо.
– Любимый, послушай меня. Другого выхода нет…
Богдан сидел на коньке крыши материнского дома. Правая его рука держала молоток. В левой был длинный и толстый осиновый кол. Он размахнулся, замер на мгновение… Раздался глухой удар. Из дома послышался вскрик Дрогоновой, будто очнувшейся ото сна. Богдан ударил снова, и крик повторился. Мысленно прощаясь, сын ударил в третий раз…
С дальних полей стал катиться страшный, монотонный и нарастающий то ли гул, то ли крик. Дрогонов спрыгнул с крыши, обежал дом и бросился было внутрь, но крик достиг своего апогея и дверь слетела с петель. Богдана отшвырнуло неудержимым пылевым вихрем, который вырывался теперь из дома, и, кружась и извиваясь, улетал в мрачное небо…
Олеся бросилась к мужу, тот метался на земле, закрывая лицо руками. Она с ужасом понимала, что пыль выбила ему глаза…
Ночью была буря и люди под её шум сожгли дом Дрогоновой. Через год на пепелище выросла одинокая осина.