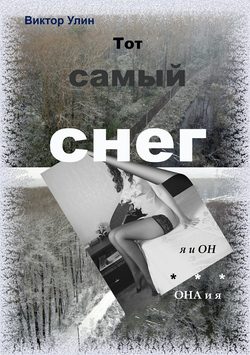Читать книгу Тот самый снег - Виктор Улин, Виктор Викторович Улин - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеЕдва завершилась загрузка файла, я встала из-за стола и заперла дверь.
Потом позвонила секретарше и наврала ей, будто срочно уезжаю на встречу с новыми поставщиками сахара – эта проблема висела давно.
Навела порядок на столе, и без того содержавшемся в немецкой педантичности: выровняла по углу органайзер из натурального дерева с латунными стойками, красиво переставила карандаши в стакане, спрятала под обложку блокнота неопрятные края листков.
И только тогда, усевшись поудобнее, положила перед собой планшет, оперлась подбородком на сцепленные ладони и принялась читать.
«Виктор Никонов»
– гласила надпись в верхнем правом углу.
Я вспомнила – да, фамилия преподавателя была «Никонов».
«УЖЕ РАСТАЯЛ СНЕГ»
– так был озаглавлен «мемуар».
Название не показалось из ряда вон выходящим.
И в то же время в нем таилась какая-то загадка.
Точнее, намек на нечто, готовое открыться.
Я принялась читать.
«В тот момент я был еще почти счастлив – если понятие «счастья» применимо к моей полностью несчастливой жизни.
Во всяком случае, я еще не сделал роковых ошибок, сломавших мне жизнь, не бросился в бизнес, а просто работал в университете.
Хотя работать там смысла почти не осталось.
В приемную комиссию меня больше не брали, но я был рад и тому, что успел нагрести солидную сумму на абитуриентах в 1995 году, последнем удачном. Тогда я смог купить двухкомнатную квартиру, жить с женой и минимально встречаться с мамой, которую в то время я уже ненавидел. Не допускаемый в приемку, я яростно занимался репетиторством, потом мне еще удавалось через друзей узнавать варианты вступительных заданий и деньги за поступление – хоть и не в том масштабе, какой бывал при возможности передать листок на экзамене или собственноручно переправить работу при проверке – я все-таки получал.
Правда, не имея прямых выходов, я не мог гарантировать себя от проколов. Например, однажды один из идиотов перепутал номера вариантов, которые я дал накануне, переписал со шпаргалки не те решения и получил законную «двойку» – я вернул родителям предоплаченную тысячу долларов и заболел, как болел всегда, расставаясь с деньгами.
Но тем не менее я еще как-то жил и на что-то надеялся.
Точнее будет сказать, что мы с женой еще жили в совместной надежде на будущее, которое казалось реальным.
Жена работала заместителем заведующей аптеки до тех пор, пока имелась возможность спекулировать лекарствами, выкупленными по оптовой цене или торговать мимо кассового аппарата, назначая произвольные цены, а выручку сдавая по накладным.
Потом она стала медицинским представителем в иностранной фирме, где в конце 90-х требовали мало, а платили много, причем в валюте.
Потом…
Впрочем, неважно, что было потом. Это выходит за рамки темы.
(Если бы я знал, что в итоге мы окажемся под одной крышей с 80-летним тестем, вонючим деревенским уёбком, говорящим «лОжить», мне бы стоило удавиться еще в 1993.
Поэтому о «потом» писать не буду.)
Главное, что мы с женой тогда были безоблачно счастливы.
Счастливы по жизни и счастливы друг с другом.
Я даже не догадывался, что судьба уже занесла карающий топор.
Продолжал жить, как жил.
Так вот, именно тогда, в последний год светлого существования сквозь мою жизнь и прошла Юля (А11).
(Отсекая вопросы, подчеркну сразу.
Я любил, люблю и буду любить свою жену, ее одну и больше никого.
Но я был нормальным мужчиной и до определенного момента не пропускал ни одной женщины в своей окрестности.
Таким я уродился; счастливый брак не имеет отношения к случайным связям на стороне. На том я стоял всю жизнь.
Ну, пожалуй, теперь можно начинать мемуар.)
Километрах в 400 от места моего обитания, полуторамиллионного областного центра, на трассе Р-914 в сторону Оренбурга лежит районный город, который я назову «Троеблёвском», поскольку ассоциируется он лишь с блёвом после неудачной ебли.
(Прочитав написанное, я подумал, что абстрактный читатель ужаснется моей ненормативной лексике.
Но что выросло, то выросло; если я всю жизнь провел в облаках нецензурной брани, то не вижу смысл под конец опускаться на землю плоскословия.
И если я считаю, что весь мир говно, все люди бляди, то ебал я в рот всех, кто пытается заставить говорить эвфемизмами.)
Не многонаселенный, он занимал большую площадь, поскольку состоял из одноэтажных домов с подсобными участками и расползся так широко, что для его полного уничтожения не хватило бы авиабомбы калибра ФАБ-5000. Лишь две улицы были частично застроены многоэтажками, некоторые из которых имели лифты. Как и везде по области, здесь имелся градообразующий фактор: молочный (или сахарный, или оба, теперь уж хер вспомню) завод, вокруг которого разросся этот дрянной городишко. Возможно, именно потому там, подчиняясь политике развития регионов, расположился филиал одной Московской пищевой академии. Ректором этого «учебного», мать его в рот еби дышлом, заведения стал бывший директор того самого завода – прирожденный начальник, разожравшийся ебздун, который был толще самого Генриха Геринга.
Сами заводы медленно гибли: уже начался спланированный развал России. Именно поэтому жирный пидор, развалив собственное предприятие, переориентировался на руководство заочной академией. Наличных денег в Троепёздинске почти не ходило. Поскольку 90% жителей еще оставались привязанными к заводам, им выдавалось нечто вроде заборных книжек (какими оперировали купцы ХIХ века), по которым можно было брать продукты в магазинах. Лимита хватало лишь на блевотину: скисший кефир и пельмени из бычьих яиц.
В филиале учились не только выползки из окрестных деревень, туда приезжали даже из моего города: получать «образование» в Троесрульске было выгодно. И официальная стоимость учебы и совокупная сумма взяток, в которые она обходилась, оказывались ниже, а ничтожный диплом не ничтожнее, чем в пиздалищном «ВЭГУ» – восточном экономико-гуманитарном университете, главном коммерческом лупанарии Уебилова. У «пищевиков» существовали два десятка специальностей, в большинстве учебных планов имелись элементы высшей математики. Все дисциплины преподавали москвичи, работавшие в головном отделении пиздосраной академии. Но по каким-то причинам – возможно, из-за их отсутствия в мударасном ебатории – математики из Москвы не приезжали. И Троепёрдинский филиал заключил договор с нашим университетом, чтобы два раза в год туда присылали кого-то из нас.
Мой друг Коля М., проректор по заочному и дистанционному обучению, предложил поехать мне, потому что там, во-первых, неплохо платили официально, а во-вторых – естественно, он не сказал прямо, но тонко намекнул – с большого потока математики можно привезти неплохие дополнительные деньги.
Я, разумеется, согласился.
По Колиной наводке я ездил в Троегейск трижды и каждый раз привозил по 20-30 тысяч (прикиньте валидность такой суммы в конце девяностых!).
Стоит отметить сразу, что я не просто очень любил деньги, а жил по главному принципу российской жизни. Деньги, раздобытые незаконно: полученные в форме взяток, «наваренные» на валюте (которой я в лихие 90-е торговал среди сослуживцев по математическому факультету Уебиловского государственного университета имени 40-летия Великого Октября), да просто украденные из общественных сумм, на минуту попавших в мои руки – приносили мне радость ту же, чем вдесятеро большие, но заработанные честным пидарашеньем.
(Где немец купит, там русский спиздит, причем даже там, где пизженье по совокупности затрат разорительнее покупки.»
С этими высказываниями Никонова, откровенными и нелицеприятными, я была полностью согласна.
Сама я давно поняла, что честным трудом живут только дураки.
И хотя взяток мне никто не давал по причине отсутствия услуг, за которые их можно брать, я все равно использовала по максимуму свое служебное положение.
Например, в коммерческих сделках с покупателями и поставщиками всегда выговаривала «откат» наличными себе, минуя интересы комбината, который платил мне зарплату и премии.
«Но те «командировочные» деньги не принесли счастья.
Не помню, куда ушла первая порция.
На вторую мы купили жене модную по тем временам шубу из нутрии, которую носить оказалось невозможно, поскольку без подклада было холодно, а с подкладом она весила больше, чем Царь-колокол в Кремле.
А на третью – добавив репетиторством – я купил самую несчастливую из своих машин, которая сначала сломалась, а потом попала под арест.
Ну ладно, об этом разговор пойдет позже.»
Прочитав несколько абзацев, я почувствовала неподдельный интерес.
Меня поразила непонятная классификация «А11», стоящая рядом с именем, которое, видимо, обозначало меня.
Но не это казалось главным.
Я и в самом деле ощутила погружение в прошлое.
Ясно и четко, хоть в несколько предложений, Никонов описал наш институт – Московскую заочную «академию», единственное учебное заведение региона, где девчонки вроде нас с Галькой могли получить внешне приличный диплом за относительно небольшие деньги. Ректор – бывший директор молочноконсервного завода по фамилии то ли Манцев, то ли Нанцев – был действительно неприлично толстым. Я не знала, кто такой Генрих Геринг, но сравнение понравилось своей абстрактностью. Как абстрактной, но приятной была непонятная аббревиатура «ФАБ-5000».
Отвлекшись ненадолго, я встала и заварила еще порцию кофе.
Совсем маленькую, в наперсток, и выпила ее одним глотком, не отходя от чайного столика.
Потом опять опустилась в чудесное кожаное кресло и рванулась навстречу воспоминаниям.
Которые, кажется, грели.
«Прежде всего, я очень любил командировки.
Этим существенно отличался от обычного мужчины, живущего в нормальной семье с нормальной, то есть обычной женой, которая его кормит и обстирывает – для такого командировка есть мУка, поскольку обо всем приходится заботиться самому. Моя вторая жена была создана для блеска в обществе, а не для шароёбства по дому, с ней я жил как военный человек в казарме, то есть на собственном обеспечении. Я ощущал готовность в любой момент уехать хоть на Северный полюс, лишь бы сбросить вериги хозяйства: не рыскать за продуктами, не готовить, не накрывать на стол, не подавать еду и не мыть посуду, не заботиться о том, чтобы в шкафу всегда имелось чистое белье и даже не убираться. Перевести дух от всего этого для меня было равнозначно тому, чтобы оказаться в раю. Поэтому в отличие от большинства коллег, старавшихся управиться быстро и скорее вернутся домой, я пытался взять все возможные часы по математике и жить целый месяц в ужасном общежитии автобазы, последний этаж которого арендовала пиздотная академия.
Меня не напрягал даже чудовищный график работы.
Я уже не помню, что происходило там по субботам и воскресеньям: кажется, в каждую сессию выпадало 1-2 свободных дня. Но типичной являлась ситуация, когда мои занятия начинались в 8 утра и с часовым перерывом продолжались до 10 вечера. Впрочем, вторая смена меня не напрягала. Ближе к шести часам стоило следить за состоянием начальства, через 5 минут после его отъезда сворачиваться, распускать студентов, а самому идти пить водку.
Набрасывая мысленно план этого мемуара, я не смог вспомнить, когда поехал в Троеёбск впервые: в 1998 году или в 1999.
Между тем разница существенна.
В 1998 у меня имелась машина – старая шестицилиндровая «БМВ-728», принесшая мне несколько маленьких радостей.
Задний диван зеленой «акулы» мог сравниться с хорошей кроватью советских времен. На нем стоило ебать каждый день новую пизду, хотя я ёб там только Зою (А6), причем всего один раз.
Но этот один останется в памяти до смертного часа и его стоит вспомнить, хотя он и не имеет отношения к теме мемуара, посвященного Юлии (А11).
С Зоей мы встречались редко, но регулярно с 1993 по 2004, трахались по-всякому у нее дома, а в начале века она научилась со мной кончать, даром, что мне было уже 40 лет, а ей – 52. Делала она это в позе наездницы – работала неторопливо и тщательно, а я, претерпевая боль в намертво защемленных местах, еще более тщательно удерживал ее за бедра, не давая соскользнуть, и поочередно хватал губами ее серовато-розовые соски.
После всего она растекалась по мне белым телом, быстро-быстро целовала мое лицо, повторяя два слова:
– Обалденно, Витька!..
– и в такие секунды мне самому хотелось жить.
Груди Зоины, небольшие и очень мягкие, я вспоминаю до сих пор.
Когда мы единственный раз за 10 лет решили поебаться на природе, она сидела у меня на коленях и я наслаждался ее телом до последней клеточки. Ее большой уютной задницей, ее желтоватыми бедрами и круглыми прохладными коленями и ее животом – в те годы уже достаточно пухлым, которым я тешил себя, словно третьей грудью, которая была втрое больше двух настоящих.
Кончая, я целовал Зоины губы, пахнущие табаком, а руками держал ее бюст.
Наслаждение от ощущения мягкого в моих пригоршнях до последнего момента, было столь острым, что я едва не потерял сознание.
И так получилось, что никогда в жизни я больше не только никого не ёб на заднем сиденье машины – ни этой, ни 8 последующих, бывших у меня – но и не кончал ни в одну женщину, держа ее за обе груди.»
Оторвавшись от экрана, я посмотрела куда-то в пустоту, думая о новом знании.
Двадцать лет назад мне казалось, что я хорошо понимаю своего преподавателя и представляю образ его поведения.
Никонов ничего не рассказывал о своих женщинах, но я не сомневалась, что он имеет связь с десятками и десятками. Что овладевает ими при любых обстоятельствах в любой обстановке, а свою машину использует как кровать на колесах.
Но прочитанное сказало о другом.
Начав откровенный мемуар о временах нашего знакомства и невольно переключившись на что-то сопутствующее, он вспомнил не юных студенток, подставляющих тела за зачет, а женщину, которая была старше на 12 лет – что для взрослого мужчины, а не озабоченного подростка казалось фактом из ряда вон выходящим. Сама я, приближаясь к границе пятого десятка, знала, какие трудности могла испытывать в постели эта Зоя. И за скуповатыми, приправленными матом словами я ясно видела, как он старался доставить ей удовольствие без мысли о собственных ощущениях.
А описание наслаждения с осязанием молочных желез наполнило мое сердце жалостью к мужчине, недополучившему свое. Ведь мой первый муж, пользовавшийся моим телом, как заблагорассудится, терзал мою грудь, едва не отрывая соски, получал желаемое, и я не представляла себе, что он ограничил такой опыт единственным разом в жизни.
Виктор Викторович, изображая из себя неукротимого мачо, на самом деле был совсем не таким, каким виделся.
В абзацах, посвященных Зое «А6» сквозила привязанность, несмотря на матерные слова и откровенные детали.
Я снова склонилась к мемуару.
«А потом мы сидели уже одетые, Зоя опять курила, выпуская дым в щелку окна, закрытого от комаров, пробовала пальцами через джинсы мой еще не опавший хуй и говорила, какой я молодец и до какой степени хорошо ей ощущать, как из нее медленно вытекает моя сперма, влитая в огромном количестве.
Я трогал ее грудь, прохладную под тонкой футболкой, нежно сжимал любимые соски и мне было так хорошо, что я не могу этого описать.
И теперь уже не понимаю, почему в тот же момент не поехал дальше, не привез Зою к себе домой и не насладился с нею еще раз уже в человеческих условиях.
Ведь жена моя была в командировке, ее отъезд и позволил мне накопить для Зои целый литр «мужских гормонов», которые ей, разведенной и одинокой, так требовались.»
Да, я была права в своем понимании.
К этой неизвестной Зое мой бывший преподаватель относился с нежностью, редкой для обычных мужчин.
Как с нежностью он относился и ко всем остальным женщинам – в частности, ко мне, одной из какого-то количества, явно не слишком большого.
«Впрочем, я ошибся, написав, что в этой «семьсот двадцать восьмой» обладал лишь Зоей и один раз.
В ней я не раз и не два, а пожалуй, полгода еженедельно тискал груди Ирины (С3).
Они были очень белыми, упругими, и сосок, обращенный ко мне – левый, она всегда сидела справа – был почти вдвое больше правого.
Но увы, с этой Ириной у меня не дошло до серьезного, лишь один раз мне удалось стянуть с нее теплые колготки и увидеть, что живот ее не по возрасту мягок, а «дельта» коротко подстрижена.»
Теперь мне стало его жаль по-настоящему.
Видимо, мужская жизнь Виктора Викторовича Никонова сложилась до крайности неудачно, если он радовался даже такой мелочи, как разные соски Ирины (С3).
Я принялась читать дальше.
Каждое слово открывало мне что-то новое о человеке, которым я не слишком сильно интересовалась в те глупые годы.
«В 1999 я собирался продать счастливую машину, уже ставшую слишком дряхлой, да и вообще последний год ХХ века принес много несчастий.
Но все-таки кое-что, связанное с ебической «академией» пищевой промышленности выбивается из общего ряда.
В глубинах кладовки до сих лежат фотографии с тех сессий. Они подписаны датами, по которым можно восстановить время действия, но для их поиска, нужно перерыть кучу хлама, а мне этого не хочется. Не хочется хотя бы потому, что среди других я неизбежно увижу снимки самого себя, подростка и юноши, от которых потянет повеситься, поскольку я в очередной раз пойму, как счастливо начиналась моя жизнь и в какой жопе она заканчивается.
Впрочем, точный год начала описываемых событий, как мне кажется, не так уж и важен.
Просто я примерно прикинул детали, по-писательски любя определенный уровень достоверности в хронологии.
Из всего, что удалось вспомнить, делаю вывод, что моя первая поездка в Троепёздинск относится к 1998 году и пришлась она на конец мая, который выпал удивительно теплым.
98-й остался в памяти по-своему эпохальным еще и потому, что он оказался последним годом моей относительной молодости. Ведь тогда мне было всего 39 лет, я еще мог считаться поднимающимся вверх, а после сорока жизнь катится в пропасть.
Я точно помню, как с кем-то советовался, ехать ли в командировку на машине или воспользоваться автобусом. Умные люди сказали, что брать машину категорически нельзя: половину заработанных денег я потрачу на бензин и стоянку, а вторая половина уйдет на штрафы, поскольку менты в Троежопницке настолько злы, что в сравнении с ними наши Уебиловские – просто ангелы.
(Последнему я поверил.
Если милицию я всю жизнь просто не любил, то нынешняя пидарасня в погонах вызывает ненависть.)
И я поехал автобусом.
В тот год я был полон сил.
Да, в моей глубоко несчастливой жизни случались короткие моменты бездумного восторга. Когда рейсовый автобус въехал на центральную улицу Троемудска, где вдоль одной стороны стояли современные дома, обсаженные низенькими деревцами при первой новой зелени, а по другой тянулись частные постройки с неистовым цветом яблоней за дощатыми заборами, я почувствовал такое счастье, что был готов взлететь выше крыш.
Я вырвался из своего осто****евшего города, мне предстояли 4 недели свободы, в течение которых – согласно рассказам опытных людей – я плюс к деньгам мог выебать половину заочниц, находящихся во всех возрастах женской зрелости.
(Не за отметки, а по взаимному расположению, о чем я, пожалуй, напишу ниже.
Чувствую, что в моем мемуаре будет слишком много «ниженаписанного», отклоняющегося от непосредственной темы: истории моих отношений с Юлией, имеющей «тузовый» номер 11 в списке моих женщин.
Но я пишу не вымышленную, а свою собственную жизнь и не могу обойтись без некоторых деталей.)
Душа моя парила в эмпиреях сладостных предчувствий.
Ах, если бы хоть десятая часть из мечтаемого сбылась…
Но вернемся к истории Юли.»
В жизни я прочитала очень мало книг, никогда не интересовалась литературой и ничего в ней не смыслила. Но стиль Никонова окутал неприторной изысканностью и каким-то почти фотографическим описанием реальности.
Именно реальности; мне казалось, будто я слышу голос этого человека, ощущаю неустойчивое состояние его души, которое вынуждало то шифровать звездочками чуть-чуть неприличные слова, то без стеснения употреблять явный мат.
Но больше всего поразило меня то, что замыслил мемуар, посвященный описанию наших с ним отношений.
Я как-то сразу поняла, что «Юля (А11)» – то есть я – была его одиннадцатой по счету женщиной. Но что говорили буквы?
«Итак, я ездил в Троеблядск трижды: два раза весной и один раз осенью.
Такие командировки требовали муторной перестановки занятий в университете, стыковки чужих часов и разных форм благодарности тем, кто меня заменял, но они того стоили. Я ездил бы троесрать еще и еще, если бы в последний приезд не погорел совершенно глупо.
Наверное, об этом тоже стоит написать подробнее, хотя к Юле (А11) инцидент отношения не имеет.
Но отступление лучше нарисует образ автора: сорокалетнего мудака, теряющего чувство реальности на пустом месте.
По одной из специальностей набралось человек 60. Читал я лекции всему потоку, но на экзамен огромную группу распределили между мной и какой-то дурой из местного техникума. Мне, идиоту, следовало подождать до выдачи ведомостей, но студентки надавили, тряся сиськами и письками…»
Я невольно улыбнулась, вспомнив, что двадцать лет назад Никоновский лексикон был иным.
Видимо, за минувшие годы он сильно озлел.
«…Развернув общий список, поблядушки поделили его линейкой пополам и убедили, что выше определенной буквы (кажется, до «К») они будут сдавать мне, а ниже – той старой суке.
Я пишу «суке», поскольку только пизда уровня недоёбанной училки средних классов – выебал бы ее в ж***у кактусом, и до сих пор желаю всех болезней и этой ****и, и ее детям и родителям – могла возмутиться, увидев, что студентка из «ее» списка имеет проставленный мною результат.
Благодаря массовости такса была смехотворной: за любой зачет, за любую оценку мне платили всего 100 рублей.
Не думаю, что местная оторва была чиста, как моча невинной девы, в системе высшего образования дураки умерли вместе с Брежневым, но она подняла вопрос, я зачеркнул своей рукой отметку в зачетке и вернул студентке ее сотню.
Но сама ситуация оказалась приговором, в очередной раз говорящей о том, что преподаватель никогда не должен поддаваться давлению студенческой сволочи.
Именно сволочи, потому что в общей массе студенты суть редкостные негодяи.
Пока нужно, они готовы встать перед тобой раком. Но потом с той же легкостью выболтают кому угодно условия и расценки. И если ректорат попросит всерьез, не моргнув глазом любая безмозглая проблядь подпишет письмо, что за тройку по математике я склонял ее к сожительству на крыше.
(Как случилось со мной позже в елдотной «УГАЭС» – Уебиловской академии экономики и сервиса, где существовал особый проректор по борьбе с преподавателями – косорылая срань, уволенная из ментовки за пьянство.)
Правда, в Троессотской «академии» по поводу буквы «К» большого шума не было.
Не было вообще никакого шума.
Просто в четвертый раз меня туда не пригласили.
Но об этом сейчас не стоит больше писать, тратя время и силы.
Как вы, наверное, угадали, Юля была моей студенткой.
Прежде, чем рассказывать о ней, скажу: общепринятое мнение насчет того, что любой преподаватель готов на натуральную плату за экзамен – миф, не имеющий основ.
Мой педагогический стаж составляет почти 30 лет. За это время на приемных комиссиях и семестровых сессиях я заработал сотни тысяч, если не миллионы рублей. Но ни с одной студентки я не брал телом.
В конце концов деньги – это бумажки; неимущим я всегда ставил оценки просто так. Более того, современные студенты готовы заплатить любые суммы, чтобы избавиться от не интересующего их предмета.
Однажды в университете после первой лекции по матанализу на физическом факультете несколько студентов отошли к окну и о чем-то тихо переговаривались. Потом от группы отделился самый смелый, приблизился ко мне и спросил:
– Виктор Викторович, сколько вам надо заплатить, чтобы получить все зачеты и экзамены по вашему предмету и о нем забыть?
Я не возмутился: читать лекции ебдолам, которым они не интересны, мне давно остоп***дело. И даже не удивился, зная современные нравы. Спокойно объяснил ходоку, что курс длится 3 семестра, в каждую сессию печатаются новые ведомости и сама зачетная книжка заполняется постепенно. Что я, конечно, могу озвучить сумму и взять ее с гарантией на все отметки вперед, но это опасно для них, поскольку 3 семестра составляют полтора года и за это время на меня может упасть кирпич. Поэтому, не отказываясь от денег, я предложил возвращаться к вопросу по мере необходимости.
На том порешили, студенты платили мне каждые полгода, не сдавая экзаменов; сейчас многие из них, вероятно, достигли высот карьер, для которых математический анализ не требовался.
Я перестал страдать пиздотенью «педагогической морали» в момент, когда стал доцентом ВАК, то есть получил московский аттестат, подтверждающие звание. В советские времена оно гарантировало пожизненную – до пенсии – зарплату в 320 рублей при среднем инженерском окладе 120. На таких условиях я бы работал честно-благородно, принимал в дар лишь цветы и даже конфеты распечатывал бы для угощения. Но времена изменились, доцентская зарплата превратилась в пшик, и виноваты в том были родители моих студентов и родители их родителей, которые исправно голосовали за политиков, лишивших меня привилегий, которые я заработал за восемнадцать лет учебы.
Поэтому совесть меня не мучила, я брал и брал и собирался брать дальше.
И делал так до тех пор, пока работал в системе.
Но еще раз хочу повторить, что брал я лишь с не желающих учиться. И не вымогал у тех, с которых было нечего взять.
Положив руку на сердце, могу сказать, что за всю жизнь я никому не сделал зла: студенты, обогащавшие меня, оставались счастливы решением проблем, прекрасно понимая, что они ничего не знают, а я не Франциск Ассизский, чтобы безответно плодить добро на пустом месте.»
Я посмотрела в завешенное снегом окно.
Мой преподаватель писал о себе вещи, которые обычные люди тщательно скрывают от всех, прячась под маской добропорядочности.
Однако я его понимала.
Несомненно, Виктор Никонов был донельзя циничен, но он имел право быть циником, равно как и облагать данью лентяев, которые не заслужили оценок. Ведь для меня даже учеба в ничтожной шарашке Манцева-Нанцева составляла проблему, а он без всякой помощи выучился в каком-то столичном университете, потом учился в аспирантуре и защищал диссертацию.
Слово «диссертация» сейчас вызывало лишь мысль о деньгах; точнее – о том, на докторскую их хватит, или только на кандидатскую. А во времена Никоновской молодости все было по-честному, всерьез и надолго.
Окажись на его месте двадцать лет назад, я брала бы с нас, идиотов и бездельников, не по сто рублей, а по тысяче, и не за оценку, а за каждый балл.
«Деньги это деньги. Их платит тот, у кого они есть.
Но принуждать студентку к половому акту я всегда считал делом бесчестным и недопустимым.
Почему она должна была терпеть контакт со мной даже в том случае, если я ей физически противен, если ей не нравится мой запах, если, в конце концов, ей велик мой фуй?
Правда, в Троеговнинске одна студентка – всего одна! – фактически предложила себя за оценку. Я отказался и озвучил ей стандартные 100 рублей. Деньги она отдала без эмоций, а я почувствовал правильность поступка.
Хотя на самом деле в том конкретном случае я более заботился о себе, нежели о ней. По одному виду этой ***ди можно было понять, что для нее раздвинуть ноги проще, чем умыться, а ее трусы можно использовать в качестве лабораторного материала на практике по венерическим болезням.
Правда, уже сейчас я испытал досаду от того, что ее не выебал.
Но потом прикинул здраво и понял, что нынешнее число пёзд, в которых побывал мой хуй – 33 – эпохально и показательно, а с нею стало бы 34 и весь шарм «Христова номера» пропал именно впизду.»
Очередной факт из биографии Никонова огорчил в очередной раз.
Число «33» – в среднем по одной новой женщине за один год активной жизни – казалось ничтожно малым для такого умного, колоритного, харизматического человека, каким был доцент Виктор Викторович Никонов.
Сама я гульливой не была, но мужчин понимала.
Во всяком случае, я думала, что даже цифра «330» осталась бы недостаточной для количества женщин, которых он осчастливил своей близостью.
Именно осчастливил, под этим утверждением я могла подписаться, опираясь на свой опыт.
Мне стало еще интереснее узнать, каким образом он напишет обо мне, совпадет ли его отношение к моей персоне с тем, какое осталось во мне к его личности – оставалось все это время, сколь ни пыталась я забыть и задвинуть.
Но не менее интересно было читать о нем, о его привычках и восприятии мира.
«Я отклоняюсь от темы, которой хотел придерживаться, начав писать этот материал.
Я делюсь памятью с самим собой, а не рисую ёбово ради ёбова.
Но все-таки, пиша для себя и для горстки друзей, таких же несчастливых ебарей, получающих удовольствие не от ебли, а от ее описания, я не исключаю, что он когда-нибудь попадет в руки какого-то постороннего ебздола, не знающего ничего и видящего все иначе.
Меня могут считать этаким неуёбным ебилой, шагающим по жизни от пизды к пизде.
Так вот это не так.
Вижу смысл в следующем признании.
Даже на закате жизни я остался сексуально чист перед своими студентками.»
Я вздохнула.
Под последним утверждением я была готова подписаться дважды, трижды, десять раз.
И одновременно я улыбнулась, взглянув на монитор и перечитав несколько абзацев.
Нецензурный лексикон Никонова был столь виртуозен, что матерные слова не казались матом, а звучали возвышенно.
«Вообще, если не считать Юли, у меня были отношения лишь с одной из своих студенток – с Ириной (С3), об обжималках с которой на заднем диване «БМВ» я уже написал.
Но она не идет в счет – и не потому, что за все эти встречи мне не удалось достичь ничего. Просто даже то, что можно назвать «бывшим между нами», было после того, как эта Ирина перестала быть моей студенткой…
Но пора-таки вернуться к временам Московской «Академии пищевой промышленности», в рот ей дышло сунуть и провернуть.»
Кажется, вот-вот мне предстояло прочитать то, что предрекала толстая Галька.
«В этом пиздохуйском заведении, презираемом и студентами, и преподавателями, и жабоподобным «ректором», реально экзаменов не сдавал никто, поскольку никто не учился и к ним не готовился.
В первый свой троеёлдинский день я понял, что стою у края колодца с золотым дном и надо лишь засучить рукава, чтобы начерпать оттуда побольше.
Не будучи зверем, я установил порядок, согласно которому студенты, участвующие в семинарах – то есть решающие задачи у доски – получали пятерки «автоматом». Внешне это казалось индульгенцией, но таковой не являлось. Ведь если на потоке насчитывалось 6 групп по 25 человек, а практических занятий назначалось всего 4 на всех, то ясно, сколь малым был шанс получить «автомат» даже желающим. Хотя и особо желающих не находилось, обычно я для вида вызывал кого-нибудь на подиум, а задачу решал сам и не только объяснял решение, но даже его диктовал.
Пидорическая академия возникла за несколько лет до моего приезда, система получения оценок успела устояться, мне не приходилось придумывать нового, оставалось лишь вписаться в традиции. И я, конечно, вписался стопроцентно.
Вопрос об оценках для всей группы решался старостой: так было заведено потому, что отдать деньги и получить оценку каждому студенту по отдельности не представляло физической возможности. Как я уже упомянул, преподавателей разместили в страшном общежитии, стоявшем через дорогу от учебного корпуса. Все три раза мне удавалось жить одному, как делали все коллеги-мужчины.
(Женщины же, наоборот, почему-то стремились селиться парами.)
Повторю еще раз, что укладывать кого-то в постель за оценку я не намеревался.
Но знал, что основную массу студенток заочной формы обучения составляют женщины замужние или разведенные – то есть познавшие радость секса и знающие, что хуёв, как и пёзд, много не бывает. Поэтому рассчитывал на желание иногородних, чьи мужья и дети остались далеко, зайти в гости, выпить и попердолиться со мной чисто для удовольствия.
Практика показала, что несчастливый ход мой жизни оказался несчастливым и тут – ни в одну из трех сессий просто так поебстись ко мне не пришла ни одна пизда.
Мои вечера в общежитии были всецело посвящены пьянству: то в одиночку, то с другими преподавателями.
Но меня опять повело в сторону, я ведь рассказываю о том, как делал неблагородные деньги.
Процесс отличался отработанностью этапов.
Итак, все начиналось со старосты.
Дня за два до экзамена староста подходила к преподавателю. Именно подходилА, поскольку парней в пищевой отрасли училось мало, а среди старост их вовсе не встречалось, эти должности занимали женщины, причем самые прожженные из всех.
(В хуесранской академии я знал только одного старосту-парня.
Его звали Альфред, именно он просветил меня о системе, принятой в Троепиздулинске.
Познакомившись, кажется, в первый день моего первого приезда, мы поняли взаимные устремления с полуслова, прониклись взаимной симпатией и общались все три сессии.)
Первым выяснялся вопрос о таксе. Обычно это происходило в укромном уголке прилегающей территории: филиал мусорной академии занял здание детского сада, когда-то принадлежавшее сахарному заводу – оставил себе даже расписные табуретки – и вокруг сохранились клумбы и посадки. Камер наблюдения тогда не существовало, за кустами можно было не только договариваться о нехорошем, но даже ебстись.
Договоренность достигалась мгновенно, поскольку даже в конце прошлого века 100 рублей за китайскую грамоту математики были мизерной суммой.
Как только деканат раздавал экзаменационные ведомости, староста являлась ко мне уже в общежитие, со стопкой зачеток и пачкой сотенных купюр. Мы запирались в комнате, я садился за стол и расправлялся быстро; процесс замедлялся лишь тем, что староста, подавая зачетки, сверялась со списком пожеланий, поскольку мы имитировали объективность и избегали одинаковых «пятерок». Хотя, будь моя воля, я поставил бы всем «шестерки», поскольку знания математики никого не волновали, как не стоил ничего и ожидаемый ими «диплом государственного образца». Но в целом процедура редко занимала больше пятнадцати минут – в официально назначенные часы мне оставалось лишь делать вид, будто я сижу и жду студентов. Ожидание в пустой аудитории при пустом коридоре выглядело подозрительным; я переносил экзамен в иное место, нежели указывало расписание, и был готов соврать девицам из учебной части, что там оказалось занято – но за все три сессии, за добрые полсотни экзаменов и зачетов, проверять меня никто не пришел.
Ясное дело, что шпионские игры с целью преступного обогащения в мелких размерах были недостойны сорокалетнего мужчины, выпускника Ленинградского университета, кандидата физико-математических наук и доцента. Но право стыдиться за них, повторю еще раз, я отдаю тем московским негодяям, которые развалили систему высшего образования и обесценили мои заслуги.
Сама староста, конечно, получала оценку бесплатно, просто за труды.
(Хотя с одной из них мы почти поебались.
Не за оценку, а из взаимного расположения, о чем – если не забуду – я напишу в соответствующем месте.)
Надо отметить, что деловая староста и коррумпированный преподаватель принадлежали одному и тому же кругу людей, даром что формально их разделял экзаменационный стол. И поэтому по решении проблемы, когда баррикада падала, наступало время чисто человеческих отношений, основанных на взаимопонимании и взаимной приязни.
В старосте уже получалось увидеть приятную женщину, а не просто ходячую сумку со взятками.
По крайней мере, так бывало со мной.
Первый мой приезд в Троеклиторск пришелся на пору, когда природа бушевала, когда все кричало о жизни и ебне и само небо травило душу несбыточностью простых желаний.
В том мае я тесно общался со старостой Натальей (1D7).»
Все-таки, несмотря на дальнейшие перемены жизни, эпоха заочной учебы впечаталась в память крепко.
Я сразу вспомнила Наташу, которую Никонов, в отличие от предыдущих женщин, обозначил целыми тремя знаками: буквой и парой цифр.
Она была страшной, как черт, матерью-одиночкой лет тридцати и училась на курс старше. Работала «1D7» на почте в том же городе, а жила во дворе института.
Точнее, детский сад, оккупированный «академией сала и жира», находился во дворе ее девятиэтажки. Я хорошо запомнила тот дом, поскольку под одним из балконов первого этажа там был оборудован проволочный вольер, где держали собак.
Наташа, одна из самых пронырливых старост, ходила в короткой юбке, беззастенчиво сияя ногами, кроме которых не имела ничего приятного. Грудь ее была немаленькой, но отвисшей, а лицо отталкивало грубыми чертами. Не знаю, почему, но Виктор Викторович общался с нею в коридорах академии, как со старой подругой, или даже бывшей любовницей.
Я опять взбежала вверх по тексту и сравнила буквенные индексы. Ирина относилась к классу «С», а Наталья к «D». Возможно, эта буква обозначала у него закадычных подруг – в отличие от моей, то есть Юлиной «А».
Ведь я все-таки была его любовницей. Если, конечно, такое слово подходило к нашим отношениям.
Но почему он назвал меня чужим именем? В этом, вероятно, еще предстояло разобраться.
И что обозначали другие буквы?
Я подумала, что пытаюсь раскусить классификацию математика, очевидно важную для его воспоминаний.
Сделав паузу, я опять отвернулась к окну.
Текст дышал цинизмом и в то же время он был столь хорош, что его хотелось читать медленно, растягивая удовольствие.
«С Юлей я познакомился во вторую Троесрандельскую эпопею.
Я уже написал, что специальностей было много, лекции шли по нескольким разным потокам, а в каждом из них, даже в каждой группе имелись обособленном внутренние компании.
В Юлином выделялась кучка «хлебников» – работников хлебокомбината из города Захуяк-Тамак, другого райцентра нашей необъятной области.
Хлебницами были моя Юля, еще одна Юля, Гуля – татарка Гульнара – и Света, староста всей группы.
Они дружили, вчетвером снимали одну и ту же комнату в двухкомнатной квартире 12-этажного дома у полупарализованной бабки, жившей за счет студентов.
Пятой из компании была Татьяна (D11), жившая в частном секторе у тетки.»
Прочитав эти слова, я, кажется, кое в чем разобралась.
Имена он сохранил подлинными все за исключением моего и Галькиного. Видимо, не хотел раскрывать меня всему миру, а ее переобозначил для сохранения одинаковости.
Сравнив себя с Зоей «А6», я догадалась, что к классу «А» он отнес женщин, которых имел. Но ни вторую «Юлю» – то есть толстенькую Галю – ни Гульку, ни старосту Светку, готовую вспрыгнуть на любого мужика, он не только не имел, но не проявлял к ним мужского внимания.
Лифчик «D11» имел чашечки «D», я – «А11» – тогда носила именно «А»; можно было подумать, что Никоновские классы соответствуют размерам. Ирину «С3» я не видела, но староста Наташа до «D» не дотягивала. Видимо, все-таки он систематизировал своих женщин не по лифчикам. Подумав о том, я вспомнила, как Танька уже много позже рассказывала, что Никонов щупал ее, один раз и одетую. Сопоставив буквы, я догадалась, что «1D7» он тоже исследовал вскользь, несмотря на единицу перед буквой. А вот Ирина с разными сосками перед ним раздевалась, смысл «С» тоже стал ясен.
Разгадывать ребусы я любила еще школьницей.
Сейчас невольно улыбнулась, довольная собой: раскрытие математической системы для коммерческого директора-хлебопека было серьезной победой.
Но в то же время, прочитав о женщинах из нашей академии, краешком прошедших через него, я ощутила запоздавший на двадцать лет укол ревности.
Ведь эта Наташа существовала в его жизни параллельно со мной.
«Незадолго до экзамена староста «хлебниц» отвела меня в сторону.
После короткого разговора она позвала меня пообедать – не с целой группой, а с компанией самых близких подружек.
(В столовой, находившейся около говнопомоечной академии, кормили дристотиной, и питался я в основном водкой.
Вероятно, по мне это было видно, добрая женщина меня пожалела.
По крайней мере, так мне подумалось.)
Разумеется, я согласился; поесть в компании я любил не меньше, чем выпить.
Не дожидаясь намека, я тут же добавил что девушки, меня накормившие, получат отметки просто так.»
Я вспомнила, как все было. Вспомнила так, будто не прошло двадцати лет.
На самом деле Светка не просто пожалела Никонова, а он страшно нравился ей как мужчина, которого хотелось заполучить в свою компанию. И, видимо, звезды сложились так, что заполучила она его для нас с первой попытки.
Высокого роста, хоть и слегка сутулый и неспортивный, Виктор Викторович всегда носил костюм и белую рубашку с галстуком, был коротко стрижен и гладко выбрит. Из разговоров мы узнали, что помимо математического университета он имеет второе образование – какой-то институт литературы в Москве. Что он лет десять служил внештатным корреспондентом при вечерней газете своего города. Кроме прочего, вернувшись из Ленинграда кандидатом математических наук, он заработал ученое звание «доцента». И это, как я осознала теперь, было лишь малой малостью того, что он представлял из себя.
Но уже тогда я понимала, что Виктор Викторович – не просто очень интересный, а самый интересный человек из всех, кого я знаю; о существовании таких людей я не подозревала в доинститутской жизни. Казалось, что это он, единственным из всех преподов, был москвичом. Он мог говорить на любую тему, а по вечерам пел так, что даже не зная слов, мы подтягивали и хор звучал стройно. Странным казалось то, что в разговоре он картавил, объясняя это «полудворянским» происхождением, а пел чисто. Голос его был так приятен, что мы часто просили исполнить какой-нибудь романс самостоятельно. Он вставал из-за стола, выпивал рюмку водки и, раскинув руки, как Шаляпин, заводил нечто такое, от чего у меня бежали мурашки по позвоночнику…
Впрочем, я запуталась в воспоминаниях: Никонов всерьез вошел в нашу компанию на второй сессии; во время первой он приходил лишь пару раз. Просто он был так хорош, что казалось, будто весь первый курс я провела с ним.
Хотя не понимала до конца, что в нем притягивает так сильно.
В те времена он мне просто нравился. Теперь я понимала, что стоило пойти учиться в ту помоечную академию лишь для того, чтобы встретить на своем пути столь замечательного человека.
Именно замечательного, слово я могла произнести не лукавя.
Не имев проблем с математикой, я не интересовалась закулисными делами Никонова в отношении других студентов, и особенно – студенток. Прочитав откровенную исповедь я не ужаснулась, не стала относиться к нему хуже. Я поняла его, я приняла условия, в которые поставила его жизнь, вынудив заниматься неблагородным делом.
Я знала также, что Виктор Викторович, мягко говоря, нецеломудрен, хотя, как поняла сейчас, сильно преувеличивала его амурные успехи. Но слова о Зое из класса «А» под номером 9, свидетельствовали о том, что к женщинам он относился всерьез.
И еще я до сих пор помнила, как он разговаривал со своей женой.
В те годы средства связи находились в состоянии махрового тюльпана: состояние их было ярким, странным и раздрызганным. Еще использовались пейджеры, кое-кто ходил с транковыми телефонами – увесистыми, как кирпичи и такими же бесполезными. У самых продвинутых появились настоящие мобильные: имелись системы, не использующие СИМ-карт, а привязанные к городским номерам. Я помню это хорошо, потому что в нашей группе был толковый парень, чистой воды технарь, которого невесть каким ветром занесло в «жиро-сальную» шарагу. Повернутый на связи, он не только был осведомлен о происходящем, но делился своими знаниями с окружающими, и мне бывало интересно послушать.
Сотовая связь уже существовала, но роуминга еще не имелось, поэтому преподаватели оккупировали учебную часть и звонили домой по обычному телефону. Один раз я случайно услышала разговор Никонова – нескольких его фраз хватило, чтобы понять, что жену он любит единственную из всех женщин. А внимание к остальным лишь подчеркивало его личность; мужчина, не интересующийся женщинами, всегда казался мне ошибкой природы.
И в школе и в семье меня пытались воспитывать на несуществующих идеалах.
Истинно хороший человек должен был быть белым: кристально честным, верным, непорочным и так далее. Отклонение от любого из требований делало его черным.
А вот Виктор Викторович Никонов казался не белым, не черным, а многоцветным.
«Юле было лет 25, она имела мужа и ребенка.»
Меня не тронула досада от того, что он увеличил мой реальный возраст на два года.
Ведь в самом деле тогда я, замученная жизнью: конвейером на хлебокомбинате, и этой учебой, и семьей, которая с первым мужем несла мало радости – наверняка выглядела старше, чем была.
Как сейчас, проживая совсем иную жизнь, казалась моложе.
«При среднем росте она имела достаточно стройное сложение.
У нее были ярко-зеленые злые глаза, а NAC вызывал сочувствие.
Конечно, его я увидел позже. Но имея привычку при знакомстве с новой женщиной первым делом рассматривать ее грудь, я сразу отметил, что состояние Юлиного бюста характерно для 20-30 летней кормившей женщины, когда система связок Купера разрушена, а жировое окружение, составляющее объем молочной железы, еще не наросло.»
Относительно моих глаз преподаватель был стопроцентно прав; в те времена они казались злыми. Это теперь, став самодостаточной и уверенной, я помягчела даже в зелени взгляда.
Я не знала аббревиатуры «NAC», не имела понятия, кто такой Купер и что он связывает – равно как и то, откуда математик знает тонкости о женской груди – но отметила, что Юлин бюст Никонов описал с большой долей снисхождения. На самом деле мои груди тогда казались жалкими мешочками, к которым никогда не вернутся ни упругость, ни размер. Это меня удручало, поскольку я все-таки была молодой и хотела абстрактно нравиться. И я тихо завидовала дуре Таньке, которая, несмотря на двоих детей, в лифчике носила мячи.
Вспомнив те времена, я потрогала свою грудь, спрятанную темно-серым графитовым костюмом английского производства.
Теперь мой бюстгальтер сравнился с Танькиной классификацией: имел чашечки «D». Насчет непонятного «жирового окружения», которое «наросло», Виктор Викторович оказался прав.
Другое дело, что сейчас тяжелая грудь мешала жить, зимой мне становилось тесно в толстой одежде, а летом под ней потело. Этот бюст как нельзя лучше пригодился бы мне в двадцать пять лет или в тридцать, а в сорок три же он напрягал. Как напрягало все, пришедшее по жизни не в срок.
Хотя главное все-таки пришло вовремя.
Я посмотрела на запертую дверь кабинета. Конечно, никто снаружи не мог увидеть моих жестов, догадаться о моем занятии. Да и вообще меня не беспокоили; отключенный секретаршей, внутренний телефон молчал, а звонить мне на сотовый могли только директор, два его заместителя моего уровня и клиенты, которые не могли решить вопросы с моими подчиненными, начальниками отделов сбыта и снабжения. Видимо, сегодня все решалось, мне никто не звонил.
Подумав о возможности уединиться, я вдруг сообразила, что «отлучка» по проблеме сахара шита белыми нитками, поскольку моя красная машина стояла на комбинатской парковке, говоря всем, что я на месте. Но я тут же поняла, что падающий снег успел набросить на нее белое покрывало, скрыть цвет и даже очертания.
Можно было читать дальше, думать и вспоминать.
«Впрочем, Юлина грудь меня не заинтересовала, изучил я ее позже.
Действительно потрясающим элементом ее тела были ноги.
Причем, как ни смешно, их я впервые оценил не в натуре, а на фотографии.
На простой карточке «альбомного» формата размером 9х12 или около того.
Кончался ХХ век, о цифровых фотоаппаратах еще никто не мечтал, но женщины всегда любили фотографироваться.
Мои пиздюшки-хлебницы не являлись исключением.»
Ненормативное слово, каким он аттестовал меня и моих академических подружек, в тексте казалось ласковым.
«Каждая привезла альбом, все показывали себя, своих сопливых детей, дебилообразных ебланов мужей, родственников и подруг на бесконечных свадьбах каких-то даунов и имбецилов – людей с печатью вырождения, характерной для периферийных городков.»
И опять Никонов ударил в точку; о том, что мой первый муж – не «образный», а самый натуральный дебил, я поняла сама, хотя и позже.
«И вот когда в первый мой визит…
В первый мой визит я из вежливости – из чистой вежливости, никогда не интересовавшись семейными фотохрониками – взял альбом Юли и увидел ее ноги в черных колготках, то понял, что пропал.
Пропал насмерть и необратимо.
И умру, если не заполучу эту женщину.
Нечто подобное, но на порядки более слабое, я испытывал когда-то, увидев очень молодую и очень привередливую Гульшат (А8) – смуглую татарку, чьи черные, как шляпки грибов-рядовок, соски говорили о наличии казахской крови.»
Я усмехнулась с определенным восхищением.
Несомненно, Никонов был художником во всем, что касалось женщин и женского тела.
Я не знала, какие соски у казашек; я вообще никогда не интересовалась женскими частями, их цветом и размером, поскольку обладала нормальной ориентацией. Но прочитав, явственно увидела эту Гульшат – «цветок радости» – со шляпками рядовок на груди. Тем более, что грибы я знала и любила, особенно жаренные с луком и картошкой.
«Но Гульшат – если называть вещи своими именами – была просто тощей.
А Юлины ноги казались – не боюсь написать, а потом повторить это слово сколько угодно раз –
самим совершенством.
В реальности все сидели вплотную к кухонному столу и ни чьих отдельных ног я нихера не видел.
Но от Юли в альбоме на меня напало наваждение.»
Наверное, то в самом деле было наваждением.
Но я невольно отодвинулась от стола, приподняла юбку и вытянула правую ногу перед собой.
Ничего особенного в моих нижних конечностях не имелось; точнее – они были не хуже, но и не лучше, чем у других.
Правда, они до сих пор хранили относительную стройность, несмотря на сидячую работу, я не страдала «зоной галифе». Правда, из-за сидячести мне уже пять лет приходилось носить компрессионные колготки, без которых к вечеру сильно отекала.
По возрасту мои ноги считались красивыми, но в молодости являлись самыми средними.
Просто в нашей маленькой компании Галя имела слишком толстые бедра, Гуля – слишком худые, Татьяна носила чересчур длинные платья. Лишь Света могла покрасоваться, даром что была на восемь лет старше меня…
Но на старосту наш Виктор Викторович не обращал внимания, несмотря на все ее потуги.
На фотографии из маленького альбома я непристойно сверкала черным из-под мини-юбки рядом с тремя скромно одетыми подругами.
Я подумала, что все решил случай.
Будь я в юбке подлиннее или найдись у меня в тот день пара чистых телесных колготок и не пришлось бы надевать черные…
Не случись того, что случилось случайно, и глаз Виктора Викторовича не зацепился бы за мои бедра, коленки и икры.
И он не сопоставил бы меня на фотографии со мной в домашнем халатике и с ногами, спрятанными под край стола.
Не сопоставив, он не увлекся бы мною по-математически абстрактно, несмотря на мой довольно резкий в те годы стиль поведения. И наши отношения не покатились бы дальше по дороге, через двадцать лет приведшей в точку, где ему захотелось написать этот мемуар…
Если бы, если бы, если бы…
Вздохнув, я еще раз осмотрела свою ногу в колготках «Medi» карамельного цвета, купленных за восемь тысяч рублей, одернула подол и снова придвинулась к столу.
Никаких «если бы» не оказалось.
И все пошло так, как пошло.
Хотя, возможно, Виктор Викторович лукавил в мемуаре, описывая мои не в меру прекрасные ноги…
Подумав обо всем, я вернулась к тексту.
«Повторю, что девиц за столом было пять.
У второй Юли были приятно выпирающие грудки размером с небольшие арбузы местного сорта.
Татьяна (D11), мать двоих детей, носила лифчик такого покроя, что ее мячи казались даже не футбольными, а баскетбольными.
Я улыбнулась.
Наши взгляды на Танькины бюсты тех времен, как выяснилось, выражались одинаковыми словами.
«Жопа старосты Светланы стоила тысячи и одной жоп, виденных мною в жизни.
Последняя – мышеобразная серенькая Гуля казалась мягкой и даже интеллигентной. И вела себя как-то особенно, ласково.
А вот моя Юля среди всех была самой вульгарной, злоязыкой.
И настолько неприветливой, что сама надежда поепстись с ней казалась дикой.
Хотя захотел я ее сразу, едва рассмотрел ее в девчоночьем альбомчике.»
Я опять улыбнулась, улыбки лились из меня.
Скупые описания подружек поражали точностью.
Признание в желании меня с первого взгляда подкупило.
На самом деле, на той фотке меня можно было признать за проститутку. Познав к тому времени лишь своего «дебилообразного» мужа, я вела себя так, будто переспала со всем городом.
«С этими молодыми женщинами, которых для себя я именовал «девчонками» даром, что старшая из них была моложе меня всего на десять лет, мне было хорошо, как никогда в жизни.
Чтобы им стало так же хорошо со мной, за обедом я объявил, что не могу проставить им оценки прямо сейчас, поскольку деканат может поменять порядок экзаменов, но всем гарантирован успех.
Что девчонки могут ни о чем не волноваться, есть, пить и радоваться жизни, вообще не ходить на математику.
Правда, они ходили исправно: то ли по инерции, то ли пытаясь показать, что им не безразличен мой предмет. И несмотря на то, что мне самому мой пиздопредмет давно остопездел, внимание было приятно.
Затем настала сессия.
Причем гораздо раньше, чем того хотелось.
Во всяком случае, я еще не заграбастал всех желаемых денег, не выпил очередную бочку водки и не совершил всех попыток в поиске тел.
Я расставил «хлебницам» обещанные «пятерки» в ведомость и мы договорились, что вечером я к ним приду.
Учебная часть поставила математику в конец, и этот вечер был самым последним: закрыв сессию, девчонки уезжали домой.»
Прочитав слова про «самый последний вечер», я ощутила невнятное томление.
Такого я не ощущала давно, забыла и даже не подозревала, что подобное может вернуться.
Впрочем, ни во что серьезное оно не разрешилось; пришло внезапно и еще быстрее ушло.
Но все-таки пришло на минутку и тому имелись причины. Ведь именно в тот вечер началось наше падение…
Точнее, восхождение в вершине, на которой мы оказались несколько месяцев спустя.
Я сделала глубокий вдох и подумала, что перед следующим этапом чтения стоит принять еще порцию кофе.
А потом взглянула на часы и поняла, что подошло время обеда.
Удовольствие следовало дозировать, никуда не спеша.
Я выключила планшет, бесшумно открыла дверь, выскользнула в коридор и как следует погрохотала, чтобы из соседних кабинетов казалось, будто я только что вернулась.
Потом снова все заперла и пошла в комбинатскую столовую, где кормили очень дешево, но вкуснее, чем в большинстве местных ресторанов.