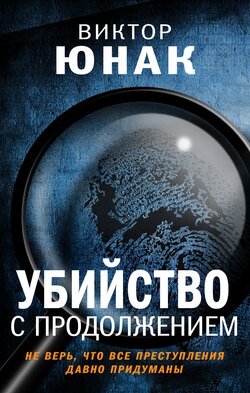Читать книгу Убийство с продолжением - Виктор Юнак - Страница 13
13
ОглавлениеПребывание в Семипалатинске надоело писателю до смерти; жизнь в нем болезненно мучила его. Даже сами занятия литературой сделались для него не отдыхом, не облегчением, а мукой. Во всем этом Достоевский винил обстановку и слишком частые болезни. С этим нужно было что-то делать, и в мае 1857 года он взял двухмесячный отпуск и уехал в казачий поселок Озёрки, в 16 верстах от Семипалатинска, на живописном берегу седого красавца Иртыша.
Степная ширь, речная прохлада, спокойная, размеренная жизнь казаков, не обремененных в ту пору и в тех краях никакими боевыми действиями, должно было благотворно сказаться на здоровье Федора Михайловича.
Он снял комнату в доме вдовы скончавшегося года четыре назад подъесаула Желнина. Чтобы как-то прокормить и себя, и двух девчушек – семи и восьми лет, Клавдия Георгиевна пошла учительствовать в начальное училище. Ее дом порекомендовала знавшая ее знакомая Достоевского в Семипалатинске, она же и записку для Желниной передала с Достоевским. Клавдия Георгиевна отказывать офицеру не стала – какой-никакой, а дополнительный заработок за сданную комнату никогда не помешает. Впрочем, сдала недорого, войдя в положение бывшего ссыльного, – всего за десять рублей в месяц да плюс 50 копеек за питание в день.
Это была среднего роста, ладно скроенная, полноватая, чернобровая и черноволосая казачка лет тридцати. Пухлые губы, большие, черные же глаза и чуть грубоватый нос дополняли картину.
Достоевский привез с собой, помимо небольшого чемодана с вещами, дорожную палисандровую шкатулку для бумаг, подаренную ему дорогим другом, Чоканом Валихановым, с которым Достоевский познакомился в первые же дни пребывания в Семипалатинске. Это был не простой ящик – он имел двойное, потайное дно. Именно в нем Достоевский и хранил многие свои, написанные в Семипалатинске, тексты, а также письма и некоторые вещи.
Общий язык с хозяйкой дома общительный Достоевский нашел сразу, порою даже помогал ей по хозяйству да объяснял хозяйкиным дочкам какие-то непонятные вопросы по обучению грамоте – мать, занятая учительством, не всегда имела желание возиться с уроками еще и дома. А сама Желнина не обращала внимания на злопыхательства соседок – мол, завела себе женишка из каторжных.
– Давно плети казацкой не пробовала, – сплевывая сквозь зубы, говорили казаки.
Достоевский обживал свое временное жилище не без удовольствия. Он отдыхал здесь душой и телом. Некрашеные, кое-где подгнившие, а где и дырявые стены он решил заклеить бумагой. Но где взять бумагу в таком количестве в этой глуши? В ход пошли его черновые рукописи – получилось даже забавно. Желнина, помогая постояльцу в оклейке стен, иногда останавливалась, читая. Несколько раз спрашивала:
– И вам не жалко своего труда?
– Это черновики, беловой вариант в моей шкатулке ждет своего часа для публикации.
Достоевскому здесь писалось легко, Желнина запретила дочкам входить в комнату к квартиранту, когда он работал. А у Федора Михайловича в голове уже созрел план нового романа о житье-бытье, мытарствах и заботах каторжников. Первую фазу работы над произведением он называл «выдумыванием плана». Но в данном случае выдумывать ничего не нужно было – всему этому он был личным свидетелем. Но не только страдания – любовь тоже будет в романе не на последнем месте. Куда ж без нее! А потом, когда героев из каторжников переведут в солдатчину, нравственные страдания еще более усилятся, дойдет даже до тайной дуэли, в которой один из героев погибнет, а другой снова отправится на каторгу, и неизвестно, кому из них стало лучше. А героиня, любившая обоих, в конце концов сошла с ума…
Так незаметно для Достоевского промчался первый месяц его отпуска в Озёрках. В один из дней, точнее, в одну из ночей, когда он засиделся едва не до рассвета, он почувствовал себя плохо, начинались судороги, голова стала запрокидываться назад, напряглись мышцы всего тела – первые признаки падучей болезни. Понимая, что одному с припадком не справиться, он хотел было позвать хозяйку, но, едва встал на ноги, тут же свалился на пол, зацепив трехногий табурет и глухо застонав. Шум разбудил хозяйку. Она открыла глаза, соображая, что это мог быть за шум, затем встала, не зажигая свечки, как была, в ночной сорочке и с чепцом на голове, подошла к комнате постояльца, негромко позвала:
– Федор Михайлович, что-то случилось?
Ответом ей было молчание.
Она позвала чуть громче, оглянувшись на спящих девочек, – не разбудила ли? Но дочки спали, а Достоевский снова не ответил. Тогда она, осторожно ступая, раздвинула ситцевую ширму, отделявшую комнату писателя, и, сделав пару шагов в темноте, споткнулась о лежавшее тело. Ойкнув от неожиданности, она поняла, что произошло. Быстро вернулась в свою комнату, нашла свечу в подсвечнике, чиркнула спичкой. Неровное, дрожащее пламя слегка притушило мрак. Женщина вернулась в комнату Достоевского, склонилась над ним, а у него уже изо рта пошла пена. Желнина поняла, в чем дело, поставила свечу на пол, метнулась к печи, вытащила из котла деревянную ложку, с огромным усилием разжала ему рот. Он весь дрожал, глухо стеная и покрывшись потом.
Когда приступ стал отступать и Достоевскому стало немного легче, Желнина перетащила его и уложила на широкую скамью, служившую кроватью. Села рядом, поглаживая волосы, утирая капельки пота. Она вглядывалась в лицо Достоевского, и в полумраке ей вдруг показалось, что оно похоже на лицо ее покойного мужа. От такого наваждения ей самой едва не стало плохо, она вздрогнула, и в этот момент Достоевский открыл глаза. Он был все еще слаб и бледен, но смог выдавить из себя слова благодарности:
– Задал я вам хлопот, Клавдия Георгиевна. Это все проклятая каторга, она мне здоровье подорвала.
– Так на то она и каторга, чтобы людей гробить, – тихо ответила Желнина, даже забыв, что ее рука все еще лежит на его волосах.
Опомнившись, она хотела было убрать руку, но Достоевский успел предвосхитить ее движение, приблизил ее ладонь к своим губам и поцеловал. Пальцы ее руки задрожали, она глянула на Достоевского, и взгляды их встретились. Ее неотвратимо влекло к нему – после смерти мужа у нее ни с кем близости не было. Да и Достоевский ничуть не менее лет был лишен женской ласки.
– Вам бы соснуть, Федор Михайлович, – неуверенно произнесла Желнина. – Слабость у вас. Да и мне бы не мешало поспать. Вон, уже светает, а мне рано вставать.
Сказав это, она все же сама не спешила уходить. А он ее не торопил. Так они и застыли в своих позах, пока не услышали, как зашевелилась на своем сундуке одна из девочек. К тому же и Достоевского вдруг охватил приступ кашля. Он уткнулся в подушки, Желнина поднялась, но Достоевский свободной рукой попросил ее не уходить.
– Не беспокойтесь, бога ради, это не чахотка, это эмфизема легких, – откашлявшись, произнес он. – А она не заразная.
– Кумыс вам нужно попить, от всяких болячек вылечит.
Достоевский знал свой диагноз и понимал, что вскоре умрет – если не от припадка падучей, то от необратимых изменений в легких. Впрочем, это знание не мешало ему до последних дней оставаться заядлым курильщиком. При этом, как и множество курильщиков в России той эпохи, курил папиросы «Жукова». Но часто и это ему было не по карману, и он тогда примешивал самую простую махорку. Он сам набивал папиросы и только в последние полгода частично перешел на сигары – в рассуждении, что они вызывают не столь сильный кашель. Он умер в результате разрыва легочной артерии – как следствия эмфиземы: означенное в свидетельстве о смерти было зафиксировано: «от болезни легочного кровотечения».
Желнина на следующий день принесла в дом крынку кумыса, купленную на базаре у приезжих киргизов. Дочки было обрадовались, но она остудила их порыв:
– Федор Михайлович болеет. Кумыс для него.
Девочки, понурившись, отошли, но Достоевский, услышавший это, вышел из своей комнаты.
– Что же вы делаете, Клавдия Георгиевна? Меня, здорового мужика, к тому же чужого вам, молоком хотите поить, а малым деткам отказываете. Я тогда тоже не буду пить.
Девочки исподлобья глянули сначала на писателя, затем на мать. Та вздохнула, взяла три кружки и каждому налила поровну.
– Пейте, горюшки мои.
Кумыс и в самом деле принес облегчение. Кашель почти прекратился, Достоевский с еще большим рвением брался за перо. Писал больше по ночам, когда установившаяся в степном поселке жара спадала и становилось легче дышать. Однажды Желнина не выдержала, вошла к постояльцу, скрестила руки на груди и облокотилась спиной о печку.
– Загоните вы себя, Федор Михайлович, не жалеете.
– А у меня времени не так много осталось, чтобы жалеть себя, Клавдия Георгиевна. А хочется успеть рассказать миру как можно больше.
– Вам бы на воздухе побольше ночью, а не в полутемной хате.
И вдруг Достоевский отложил перо, повернул голову к хозяйке и улыбнулся.
– Ежели только с вами прогуляться, Клавдия Георгиевна.
Желнина сначала смутилась, а затем согласно кивнула:
– Так уж и пойдемте!
Они вышли из дома. Черное, ночное небо без единого облачка, и только звезды да неполная луна серебрились на всю степь, заливая удивительным светом ее бескрайние просторы. То с одной стороны, то с другой заливались оркестры цикад и сверчков, будто соревнуясь, кто из них громче да ловчее играет. Сухой, даже в эти ночные часы теплый ветер дул в сторону Иртыша. И Достоевский с Желниной, словно подгоняемые этим ветром, двинулись к берегу реки.
– Простите, ежели задам неудобный для вас вопрос, – робко спросила женщина.
– Чего уж, спрашивайте. Мне в тюрьме и в каторге столько неудобных вопросов задавали, а еще ранее на следствии, что я уж путаюсь: кои из вопросов для меня удобны, а кои нет.
– Так я вот как раз про каторгу-то и хотела вас спросить, Федор Михайлович. Не страшно было вам, дворянину, оказаться среди преступников?
Достоевский некоторое время шел вперед, затем, не глядя на спутницу, сказал:
– Знаете, находясь в каторге, я, к удивлению своему, иногда встречал в людях, покрытых отвратительной корой преступлений, черты самого утонченного развития душевного. Думаешь, что это зверь рядом с тобою, а не человек, и вдруг приходит случайно минута, в которую душа его невольным порывом открывается наружу, и вы видите в ней такое богатство, чувство, сердце, такое яркое понимание и собственного, и чужого страдания, что у вас как бы глаза открываются, и в первую минуту даже не верится тому, что вы сами увидели и услышали. Все это у меня складывается на бумаге. Надеюсь, когда-нибудь опубликуют.
– А что вы сейчас пишете? – спросила Желнина, зябко кутаясь в кофту. Дневная жара сменилась ночной прохладой.
– Я много чего пишу. Что-то у меня уже готово, что-то написано начерно, а кое-что лишь в голове зреет, как вот эти самые записки, о коих я вам только что поведал… Красиво здесь, – вдруг переменил он тему. – Вроде бы и степь, а есть в ней что-то замечательное. Она расстилается непрерывной живой скатертью тысячи на полторы верст.
Они остановились, огляделись вокруг. Где-то вдалеке несмело вспыхивали предрассветные зарницы, и в том неярком свете чуть приметными точками чернелись кочевые юрты киргизов. Не было ни души, кроме них двоих.
Вот и Иртыш, тихим плеском несущий свои воды навстречу матушке Оби. С высокого берега открывалась широкая окрестность. Вода и степь – куда ни обратишь взор! А как чудно хороша была степь! В эту пору она вся еще была в цвету, благоухала, яркая зелень, испещренная цветами, как дивный ковер, расстилалась на необозримое пространство, пока палящие лучи солнца не коснулись ее, не иссушили ее!..
Достоевский дышал полной грудью, наслаждаясь свободой и в теле, и в мыслях. Он невольно стал сравнивать широкую, мутную, а порою и зловонную у залива Неву с полноводным и пустынным Иртышом, и, к его изумлению, Нева проигрывала этой сибирской реке. И поэтому берег Иртыша казался ему не только символом рая и свободы, но и символом воссоединения с миром божьим, преодоления разобщенности, разорванности с этим миром.
– Знаете, Клавдия Георгиевна, я вот что думаю – нету, увы, на земле нашей гармонии. Гармония в человеческом обществе вообще и гармония с прекрасной природой в частности – это недостижимая мечта, утерянный рай. Вы меня понимаете?
– Понимаю, – кивнула Желнина.
– Давайте присядем!
Достоевский расстелил прямо на траве свою летнюю шинель, помог сначала сесть Желниной, сразу поджавшей под себя ноги, затем сел сам, вытянув ноги перед собой и опершись руками о землю. Они некоторое время молчали, затем Федор Михайлович вновь заговорил:
– Вот гляжу я на Иртыш и думаю, что вода – как доисторический первобытный океан во многих мифах о сотворении мира – является источником всякой жизни, вышедшей из нее. Понимаете? Психологически вода является символом неосознанных, глубинных слоев личности, населенных таинственными существами. В качестве элементарного символа она двойственна: с одной стороны, оживляет и несет плодородие, с другой – таит угрозу потопления и гибели. В воды западных морей каждый вечер погружается солнце, чтобы ночью обогревать царство мертвых, вследствие чего вода также ассоциируется с потусторонним миром. Часто «подземные воды» связываются в сознании с первобытным хаосом; напротив, падающие с неба дождевые воды – с благодатным оживлением. В глубинно-психологической символике элементу «вода», которая хотя и жизненно необходима, но не питает, приписывается большое значение, как животворящей и сохраняющей жизнь. Это основополагающий символ всякой бессознательной энергии, однако представляющей опасность, если (например, во снах) наводнение превышает разумные границы. Напротив, символическая картина становится благоприятной и полезной, если вода остается на своем месте…
– Вы так поэтично это рассказываете. Я вот что подумала – вам бы стихи писать, Федор Михайлович.
– Стихи – не мое, – вздохнул Достоевский. – Полет мысли не тот… Меня все больше на оды верноподданнические тянет. То вам не интересно. Хотя. О позапрошлом годе одно написал про ангела. «Божий дар» называется. Могу продекламировать. Хотите?
– Хочу!
Достоевский на пару секунд замолчал, вспоминая, затем лег на спину – ему так было удобнее. Голос у него был мягкий, тихий, приятный, говорил он не торопясь, отчетливо.
– Крошку Ангела в сочельник
Бог на землю посылал:
«Как пойдешь ты через ельник, —
Он с улыбкою сказал, —
Елку срубишь и малютке
Самой доброй на земле,
Самой ласковой и чуткой
Дай, как память обо Мне».
И смутился Ангел-крошка:
«Но кому же мне отдать?
Как узнать, на ком из деток
Будет Божья благодать?»
«Сам увидишь», – Бог ответил.
И небесный гость пошел.
Месяц встал уж, путь был светел
И в огромный город вел.
Всюду праздничные речи,
Всюду счастье деток ждет…
Вскинув елочку на плечи,
Ангел с радостью идет…
Загляните в окна сами, —
Там большое торжество!
Елки светятся огнями,
Как бывает в Рождество.
И из дома в дом поспешно
Ангел стал переходить,
Чтоб узнать, кому он должен
Елку божью подарить.
И прекрасных и послушных
Много видел он детей.
Все при виде бОжьёй елки,
Всё забыв, тянулись к ней.
Кто кричит: «Я елки стою!»
Кто корит за то его:
«Не сравнишься ты со мною,
Я добрее твоего!»
«Нет, я елочки достойна
И достойнее других!»
Ангел слушает спокойно,
Озирая с грустью их.
Все кичатся друг пред другом,
Каждый хвалит сам себя,
На соперника с испугом
Или с завистью глядя.
И на улицу, понурясь,
Ангел вышел… «Боже мой!
Научи, кому бы мог я
Дар отдать бесценный Твой!»
И на улице встречает
Ангел крошку, – он стоит,
Елку божью озирает,
И восторгом взор горит.
«Елка! Елочка! – захлопал
Он в ладоши. – Жаль, что я
Этой елки не достоин
И она не для меня…
Но неси ее сестренке,
Что лежит у нас больна.
Сделай ей такую радость, —
Стоит елочки она!
Пусть не плачется напрасно!» —
Мальчик Ангелу шепнул.
И с улыбкой Ангел ясный
Елку крошке протянул.
И тогда каким-то чудом
С неба звезды сорвались
И, сверкая изумрудом,
В ветви елочки впились.
Елка искрится и блещет, —
Ей небесный символ дан;
И восторженно трепещет
Изумленный мальчуган…
И, любовь узнав такую,
Ангел, тронутый до слез,
Богу весточку благую,
Как бесценный дар, принёс.
Дочитав до конца, он замолчал и повернул голову к лежавшей рядом женщине (Желнина легла вслед за Достоевским и во все время замечательной декламации смотрела на те же звезды, в то же небо, что и сам писатель), а та, незаметно ни для себя самой, ни для него, положила голову ему на плечо и смотрела на него снизу вверх умным и преданным взглядом.
– Какие чудесные и добрые стихи. А вы говорите, что это не ваше.
И вдруг он почувствовал, как некая искра промелькнула между ними. Он обнял ее голову своими большими, но худыми ладонями, приблизил ее губы к своим и поцеловал, жарко и долго. Она опрокинулась на спину, и дальше уже они оба не стали удерживать своих порывов. И только ветер да месяц стали свидетелями этой нечаянной любви.
Через три дня, как раз в воскресенье, из Семипалатинска прискакал вестовой от командира 7-го батальона подполковника Велихова.
– Их благородие срочно требует вас к себе!
– У меня же отпуск, любезнейший.
– Велено вам прервать отпуск и немедля явиться в часть, – вестовой подал Достоевскому записку и стоял по стойке «смирно», пока Федор Михайлович знакомился с ее содержимым.
Желнина в это время читала только вышедший из-под пера писателя роман «Каторжники», первые две главы она буквально съела глазами за очень короткое время. Достоевскому важно было услышать мнение образованной женщины о своем новом труде, и он сам предложил Клавдии Георгиевне познакомиться с текстом. Поначалу ей сложно было привыкнуть к специфическому почерку Достоевского, но, освоившись, она стала читать быстро и с удовольствием, даже гордясь тем, что она является первым читателем этого романа.
Услышав незнакомый мужской голос во дворе, она отложила рукопись и выглянула в окно. Затем вышла во двор, Достоевский виновато повернулся к ней:
– Вот, Клавдия Георгиевна, командир срочно требует к себе. Нельзя не подчиниться.
– Что ж, прямо так сразу и поедете? Дайте хоть харчи на дорогу собрать.
– Да какая уж тут дорога – 16 верст. Одним махом долетим. Так что не беспокойтесь.
Достоевский вернулся в свою комнату, стал быстро собираться. Личных вещей у него было немного – все больше письма и рукописи. Их-то он и убрал в палисандровую шкатулку, включая и две первые главы «Каторжников», которые по прочтении вернула ему Желнина. В спешке он не проверил, вся ли рукопись у него. Сама же Желнина спохватилась лишь тогда, когда Достоевский с вестовым уже находились в предместьях Семипалатинска. И у нее учащеннее забилось сердце – значит, у него будет повод вернуться сюда и еще раз свидеться с ней.
Ожидания, однако, так и остались ожиданиями. Достоевский, казалось, забыл об этом романе, увлекшись другими темами. Да и женитьба на Марии Дмитриевне Исаевой и заботы о пасынке Паше полностью поглотили Федора Михайловича. И вскоре он даже забыл об Озёрках, а возможно, и о гостеприимной казачке Желниной.
Зато Желнина не смогла забыть своего бывшего постояльца – через пару месяцев она поняла, что понесла от него.