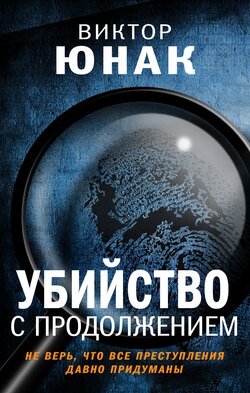Читать книгу Убийство с продолжением - Виктор Юнак - Страница 9
9
ОглавлениеИлья Достоевский, наконец, доехал до Семиреченска. Тетка Клава встретила его вся в слезах.
– Ждал тебя Миша, до последнего. Не могу, говорит, помереть, пока племяшу наследство наше достоевское не передам. И так уж врач все удивлялся: говорил, на чем лишь душа держится. Но не дождался. Вчерась как раз и похоронили.
– Я же звонил, теть Клава. Просил на день похороны перенести, – виновато произнес Достоевский, искренне чувствуя за собой вину. – Работа у меня такая. Я же в школе работаю, не смог раньше договориться.
– Ну что ж поделаешь, касатик, – грустно вздохнула тетка. – За лишний день моргу бы пришлось платить, а мы, сам понимаешь, люди скромного достатка. Ничего, сходим на могилку, повинишься, Миша тебя и простит. Он добрый, ты же знаешь. И тебя любит… любил, как сына.
– Да знаю, теть Клава, знаю.
– Жаль, не дожила Зина, твоя мать, не увидела, каким ты стал, – снова вздохнула тетка. – Учительствуешь, писатель известный.
– Ну уж насчет известности это вы погорячились, теть Клава, – засмеялся Достоевский.
– Да ладно! Для нас с Мишкой ты известный, а если другие о тебе еще не знают, значит, дураки. Впрочем, какие твои годы. Еще напишешь что-нибудь эдакое, и о тебе заговорят, верь мне. У меня глаз далеко видит.
– Вашими бы устами, теть Клава… – хмыкнул Достоевский.
– А ты не зарекайся, не зарекайся. Ты ж хочешь стать известным?
– А то!
– Ну вот! Главное, чтобы у человека хотение было и мозгов немножко. И тогда он добьется всего. У тебя и с первым, и со вторым все в порядке… Ну так как, сразу помянем Мишку или сначала на кладбище?
– Давайте на кладбище.
– Тогда поехали.
Вечером они сидели вдвоем, поминали Михаила, вспоминали какие-то смешные случаи из его и теткиной жизни.
– А знаете, теть Клава, у меня ведь одно из самых первых воспоминаний, детских, связано именно с дядь Мишей.
– Да ну?
– Ага! Мне тогда годика три или четыре было. Меня мама на лето к вам везла. И почему-то электрички тогда до Семиреченска не ходили…
Тетка задумалась, наморщив лоб. Потом закивала.
– Ну да, кажись, такое было. Тогда рельсы меняли и электрички ходили только до Касьяновки.
– Ага! А это километров сколько отсюда будет?
– Ну, наверное, шесть-семь-то точно.
– Вот и нас тогда с мамой дядь Миша ездил встречать в Касьяновку на своем мотоцикле с коляской.
– Был, был у нас такой. Ой, да почитай лет двадцать служил нам верой и правдой, – тетка взмахнула рукой и улыбнулась. – И что же тебе запомнилось, касатик?
– Жара запомнилась страшная, и ветер такой, что песок в воздухе кружился, а у меня на голове была панамка. Дядь Миша посадил меня в коляску, закрыл попоной, так что только одна голова в панамке и торчала, а мамка села на заднее сиденье. Ну, и поехали. А ветер же! А у меня руки спрятаны. Ну, и ветер сорвал у меня с головы панамку. Я как зареву. А поскольку ветер шумит, да еще мамка с дядей разговаривают в голос, ну и не сразу услышали мой рев. Когда же, наконец, услышали, дядя остановился, испуганно смотрит на меня сбоку и с высоты своего сиденья, а потом взгляд на мамку перевел. А мамуля меня спрашивает:
– Что случилось, малыш?
А я тогда еще толком не говорил, «манамка», кричу, «манамка». Мать не сразу поняла, а дядь Миша тут же:
– Может, он того, обосрался? И мамку зовет.
– Нет, – кричу, – манамка.
Наконец мне удалось вытащить руки, и я показываю на голову и еще громче слезами заливаюсь. И тут мама сообразила:
– Миш, он панамку потерял. В голову же напечет. Что делать?
– Что делать, что делать? Назад ехать, искать эту манамку, едрить ее в колено.
Тетка захохотала до икоты, когда немного успокоилась, спросила:
– Нашли?
– Нашли, конечно. Но ехали назад довольно долго. Потому как не торопились, чтобы не пропустить.
– А мне, заразы, ни Мишка, ни Зинка об том не рассказали.
– Да, скорее всего, и забыли о том, пока доехали.
Вспомнили и дочку их, Веру, как Илья, который был на пару лет младше сестры, однажды (ему было тогда лет десять) с ней пошел в лес (тогда дядя с теткой жили на даче) и едва не попал с ней под копыта кабана, которого кто-то напугал, и он мчался, не разбирая дороги, прямо на них. Илья, более ловкий, как мальчик, успел прижаться к дереву, а Вера пыталась перепрыгнуть через куст, который, как ей думалось, и спасет ее от кабана. Но тот успел добежать до нее раньше и сшибить с ног, пробежавшись по ней своими копытами. Илье еле удалось довести ее домой – где-то он ее тащил на себе, где-то она сама шла. До дачи было недалеко, но они шли больше часа. Потом Вера долго болела, но и после выздоровления долго мучилась с желудком. А через год – новая беда, на сей раз уже в Семиреченске. Плавала с подружками, заплыла далековато, судорога в прохладной воде свела сразу обе ноги. Она кричала, звала на помощь, но спасти ее не успели.
При воспоминании о дочери тетя Клава расплакалась еще больше. Достоевский налил ей полный стакан водки, поставил перед ней. Затем налил и себе, но едва ли не половину стакана.
– Теть Клав, давайте выпьем еще и за помин души Верочки. Мы с ней дружили по-настоящему.
– Давай, Илюша! – высморкавшись в фартук, она взяла в руки стакан.
Они выпили, не чокаясь. Тетка аж крякнула, выдув весь стакан одним махом. Сразу было видно, что ей не впервой. Она лишь скривилась, поставив на стол пустой стакан. Вдохнув носом воздух, она потянулась рукой к тарелке с квашеной капустой.
– Бери, Илюша, капустку-то. У меня ее много, наквасила на двоих, думала, мы с Мишкой всю зиму есть будем, а вышло вона как… – она снова всхлипнула. – Ты-то, Илюша, все один?
– Один! – кивнул Достоевский.
Он хоть и выпил меньше тетки, но почувствовал, что его уже развезло.
– А твоя бывшая-то как? Не встречаешься с ней?
– Не! Молодые были, дурные, вот и поженились рано. Думали – любовь, а она завяла даже быстрее, чем помидоры.
– Чего завяли? – не поняла тетка и даже икнула от этого.
– Ну, это так говорят. Шутка такая.
– Ты, касатик мой, ешь, закусывай, ложись спать. А завтра про дело поговорим. Я с утра сбегаю, почту разнесу и сразу домой.
– Да, теть Клава, – Достоевский тоже икнул. – Мне бы, пожалуй, отдохнуть не помешало.
Достоевский проснулся от стука закрывающейся двери. Открыл глаза, подвинул к себе лежавший на стуле возле кровати телефон, посмотрел на время – без десяти двенадцать: вот это расслабился, давно так долго не спал. Да и то сказать, принял вчера немало, до сих пор в голове шумит. Он зевнул и сел на кровати, свесив ноги.
– Илюша, ты еще спишь, что ли? – тетка осторожно подошла к двери его комнаты и просунула голову в щель.
– Да, что-то разоспался, извините, теть Клав.
– А я уже и на работу сбегала, и тебе завтрак на столе оставила. Смотрю, все застыло. Ну, ты давай, туалет, умывайся, а я пока еду разогрею.
Она закрыла дверь и пошла на кухню.
Достоевский встал, потянулся до хруста в костях. Еще раз зевнул и стал натягивать джинсы.
Позавтракав (или пообедав, судя по времени), он пошел в теткину комнату, где она уже ждала его с каким – то свертком в руках. Квартирка была маленькая, с пятиметровой кухней, зато двухкомнатная (в той комнате, где спал Достоевский, до своей гибели жила Вера). Тетка с дядей последние годы спали раздельно – дядя Миша стал сильно храпеть во сне и, чтобы не мучить жену, сам предложил ей переселяться на ночь в другую комнату. В теткиной комнате (немного большей, чем другая) обстановка была старая – одну из стен загораживала румынская стенка еще советских времен. Квадратный стол, стоявший едва ли не посередине комнаты. Зеркало-трюмо, прикрытое черной тканью, три стула и тумбочка в самом углу близ окна, на которой стоял телевизор, которому тоже было не меньше пятнадцати лет. В паре метрах от телевизора у стены стоял диван, на котором и спали сначала оба супруга, а затем одна тетка.
Тетка сидела за столом, положив рядом с собой тот самый сверток. Когда Достоевский вошел в комнату, она пригласила его сесть рядом.
– Вот, Илюша. Мишка велел тебе передать. Хотел, правда, лично, да не успел.
Тетка подвинула к Достоевскому сверток и еще тонкую школьную тетрадку в линейку, почти полностью исписанную безобразным, неровным и крупным почерком. Явно мужским. Достоевский сразу глянул на тетрадь; перехватив его взгляд, тетка вздохнула:
– Сначала хотел мне диктовать, а потом решил все сам написать. А ему трудно было, одышка страшная, потел чуть что. Сидеть толком не мог. Я уж подушки ему подкладывала да рубашки меняла…
Тетка едва не заплакала.
– Что это, теть Клава?
– Завещание на тебя. Мне через полчаса снова на почту надо бежать, а ты читай. А в свертке этом то самое наследство и есть. Мишке сверток этот передал его отец, а тому – его отец. Со строгим приговором: не потерять, не уничтожить, не продавать. И так по наследству мужикам передавать до самого благоприятного момента. Из мужиков в нашем роду остался только ты. Мишка вот и подумал, что для тебя и наступил тот самый благоприятный момент… В общем, читай, касатик. А там как сделаешь, так оно и будет. Это уже на твоей совести. Я последнюю волю моего Мишки выполнила…
Тетка расплакалась, встала, зашмыгала носом, пошла в ванную. Затем и вовсе ушла. А Достоевский сначала раскрыл сверток и увидел в нем пожелтевшие листы бумаги, исписанные выцветшими от времени чернилами еще с дореволюционными ижицами, ерами и ятями. Пролистав немного, он почувствовал, что у него бешено забилось сердце и задрожали пальцы рук. Он бережно завернул сверток и раскрыл тетрадку. Стал читать.
«Дорогой мой племяш Илюша. Надобно мне было тебе все это раньше рассказать, да в личном разговоре. А я все оттягивал. Дак кто ж знал, что я так быстро скопычусь. Клавка мне говорила, что вызывала тебя, да ты не смог приехать. Я понимаю – работа. И потому на тебя не серчаю. Да и то сказать: пока, вот, пишу, значит – дышу, значит – еще живой. А сказать тебе надобно много. Первым делом – про нашу семейную легенду. Про то, стало быть, откуда мы стали Достоевскими. И это не причуды судьбы, мы с тобой на самом деле – прямые потомки нашего знаменитого писателя Федора Михайловича. Эта история передается из уст в уста наследникам по мужской линии нашего рода. Мне ее рассказал мой (и твоей, стало быть, мамы Зинаиды) отец, тоже Федор Михайлович, а ему мой дед, Михайло Федорович. А деду – незаконный сын самого писателя. Меня и Мишкой-то назвали в надежде, что сын у меня родится и будет, стало быть, Федором. А родилась, вона, Верка, дочка. А когда у Зинки родился мальчик, то бишь ты, я умолял ее назвать тебя Федькой, но она сказала, что муж (батька твой, они тогда еще не в разводе были) против этого старорежимного имени. Потому и назвали тебя Ильей. Будто это самое что ни на есть современное имя. Ну, Илья так Илья. Бог с ними! Главное, что мужской род наш не прервался. Единственно, Зинка настояла, чтоб тебя на ее девичью (нашу то есть) фамилию записать.
Ну, так вот! Дело, значится, было так.
Федор Михайлович жил тогда в Семипалатинске. Точнее, ты ж знаешь, не жил, а отбывал каторгу…».
Достоевский отвлекся: на улице начался какой-то шум. Он встал, подошел к окну – там переругивались, матерясь, бухие мужики и бабы, дело едва не до драки дошло. Но каким-то образом буянов удалось утихомирить и развести по квартирам более трезвым соседям.
У Достоевского даже ладони вспотели и сердце, словно взбесившийся лис, рвалось наружу. Значит, он и в самом деле потомок литературного гения…