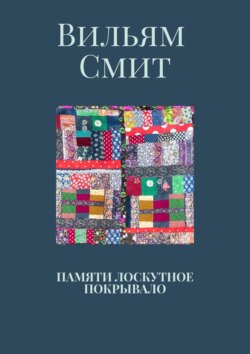Читать книгу Памяти лоскутное покрывало - Вильям Смит - Страница 4
Два года в Темиртау
Темиртау – 3. «Сконапель ля поэзи» или Как я пристрастился к поэзии
ОглавлениеОднажды вечером, когда мы только что вернулись с работы и собирались жарить картошку на ужин, на общей кухне гостиницы появился мужчина очень импозантной внешности, лет этак под сорок, и представился: Михаил Осипович Фарберг, журналист. Он заварил чай в огромном термосе и пригласил нас к себе в номер. С нашей стороны была выставлена жареная картошка и сгущенка, и ужин получился знатный. Тон беседы задавал Михаил Осипович, и его старомодная деликатность в сочетании с глубоким проникновенным голосом казались совершенно неправдоподобными на фоне всей той, уже почти привычной азиатчины, что царила за окном. Надо признаться, что в то время такого собеседника мне не приходилось встречать и в Москве.
Естественно, не мог не возникнуть вопрос, а почему Вы, Михаил Осипович, собственно говоря, объявились в этом «центре цивилизации»? Впрямую такой вопрос задать было невозможно – не позволяла общая тональность разговора. Потом, когда мы познакомились поближе, постепенно выяснилось, что М.О., несмотря на то, что он был фронтовым корреспондентом и дошел до Польши в составе действующей армии, как-то очень неуютно себя почувствовал, когда вернулся на родину после войны. Тогда-то он и счел за благо, что называется «страха ради иудейска», убраться куда-нибудь подальше «…от их пашей, от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей…».
Как показал печальный опыт очень многих бедолаг, не услышавших этих подсознательных голосов, это была совершенно правильная стратегия жизни в то время. Нас он тоже никак не расспрашивал о причинах нашего появления в Темиртау – праздное любопытство не было принято в те времена, да и характер наших отношений исключал что-либо даже отдаленно напоминающее амикошонство. Он с удовольствием слушал, когда нам хотелось рассказать о своих делах, особенно романтических (в основном, эти разговоры инициировал Юра, у которого было, что рассказать – в отличие от меня).
Довольно скоро мы узнали, что главный «нерв жизни» М.О. – поэзия ХХ века, которую он знал досконально и любил самозабвенно. Со многими из поэтов-классиков он знался лично. С молодости был в друзьях с Аркадием Штейнбергом, поэтом не очень известным, но интересным и своеобразным. Я помню также, что в более поздние времена в Москве мне случалось несколько раз провожать М. О., когда он отправлялся в гости к Арсению Тарковскому, а потом рассказывал о ситуации с изданием очередного сборника этого замечательного поэта. Интересно было послушать, когда он делился какими-то отрывками воспоминаний о совместных веселых похождениях молодости в Одессе, где он долгое время пребывал в 20-е годы.
Как-то Михаил Осипович нас особенно заинтриговал, заметив почти мельком, что и с Маяковским он был также знаком. В ответ на наши просьбы рассказать подробнее об этом примечательном факте своей биографии, М. О., не торопясь раскурил трубку, и поведал следующее:
«Где-то в году двадцатом я оказался на вечере встречи с Маяковским в Одессе. Зал был набит битком, и для меня нашлось место только в оркестровой яме. Маяковский читал стихи великолепно, и публика была в полном восторге. Но внезапно, как раз посредине чтения своей поэмы (кажется, это было „Облако в штанах“), он замолк, забыв очередную строфу. Повисла пауза. Из зала попытались протянуть ему книгу со стихами, но между залом и сценой была оркестровая яма. Маяковский вдруг заметил меня и громогласно сказал: „Молодой человек, войдите в историю, передайте мне томик моих стихов!“. Я выполнил его просьбу незамедлительно и был удостоен благосклонного кивка. Ну, чем не повод для воспоминаний о дружбе с великим поэтом!»
Но подобные рассказы-байки сами по себе не были тем главным, что заставляло нас с Юрой время от времени пренебрегать соблазнительными молодежными выпивонами, и вместо этого отправляться в гости на чай к человеку, очевидно столь далекому от нас по возрасту и интересам, каким был М. О. Объяснить какими-либо рациональными доводами, почему общение с таким «древним стариком» вызывало в нас больший интерес, чем, казалось бы, более естественное времяпровождение со сверстниками, мне и сейчас нелегко. Лучше попробую воспроизвести некоторые из самых ярких впечатлений от вечеров с М. О, что запомнились мне более всего.
Однажды, где-то в начале нашего знакомства, когда М. О. был в особенно хорошем настроении, он попросил нас помолчать и вдруг стал читать по памяти стихи Николая Гумилева. Я до этого слыхал только «Озеро Чад» и «Капитанов», которые как-то полуподпольно исполнялись на вечерах школьной самодеятельности («только без упоминания фамилии автора, пожалуйста!»), а здесь вдруг услышал такие гениальные вещи, как «Заблудившийся трамвай» или «Слово», или предельно изощренные, до полного декаданса – «В том лесу белесоватые стволы выступали неожиданно из мглы…»
Это было ни на что не похоже – не только замечательные и незнакомые нам стихи, но и их исполнение – мы с Юркой сидели, немея от чувства восторга. Добавлю к этому два слова об антураже: это был зимний вечер, за окном неистовствовал ветер, наметающий сугробы выше крыши, мороз градусов 25, все окна комнаты замерзли напрочь, и невозможно было понять, что вообще делается на белом свете, помимо всеохватной снежной вьюги. А здесь у нас в комнате – тепло, горячий крепкий чай, настольная лампа с оранжевым абажуром, дымящаяся трубка в руках М.О и исполняемое его низким баритоном гумилевское «Слово»: «И орел не взмахивал крылами, // Звезды жались в ужасе к луне, // Если, точно розовое пламя, // Слово проплывало в вышине…», которое, как известно, заканчивается словами: «И, как пчелы в улье опустелом, // Дурно пахнут мертвые слова». Помнится, когда он закончил, мы даже ни слова не могли сказать – настолько сильным было впечатление от услышанного.
Но это не шло ни в какое сравнение с тем буквально потрясением, что мы испытали в один из следующих вечеров, когда после традиционного обряда чаепития воспоследовало торжественное объявление: «Осип Мандельштам» и, не обращая никакого внимания на наше очевидное недоумение – «А это еще кто такой?», – Михаил Осипович продолжал: «За гремучую доблесть грядущих веков…». И без всякого перерыва мы услышали: «Я вернулся в мой город, // Знакомый до слез» … В тот же вечер мы узнали и о том, что: «Я не увижу знаменитой «Федры», // В старинном многоярусном театре, // С прокопченной высокой галереи, // При свете оплывающих свечей…». Но все успокоилось на том, что на самом деле: «Все лишь бредни, шерри-бренди, // Ангел мой…».
Ни я, ни Юрка вообще никогда даже не слыхали о таком поэте – а где мы могли о нем что-нибудь узнать в те времена, когда фамилия Мандельштама была вычеркнута из списка наших поэтов и вообще из памяти людской. Впечатление было совершенно обалденное. Вот так, чтобы нам узнать о существовании гениальных стихов одного из великих поэтов нашей страны, надо было уехать из столицы в глушь казахских степей!
Конечно, наши школьные учителя литературы честно старались прививать ученикам вкус к чтению поэзии. Благодаря их самоотверженным усилиям мы узнали, что и в ХХ веке в России было немало неплохих поэтов, начиная от Блока (но только после того, как он «изжил символизм», избавился от всяких там «Прекрасных дам» и создал поэму «Двенадцать» как гимн революции (???) и до нашего «лучшего, талантливейшего поэта» Маяковского (в основном – позднего). Далее, эта линия продолжалась до нашего современника К. Симонова как главного советского поэта. Бориса Пастернака вообще не существовало на свете (если не считать того, что некто с такой фамилией переводил Шекспира), а «крестьянский сын» Есенин упоминался как певец русской природы, но более всего – кабацкой Москвы – и еще, конечно, в роли автора «Письма матери».
Вы можете мне напомнить, что тогда еще была жива Анна Ахматова, но о ней мы знали лишь по докладу А. Жданова, одного из подручных Сталина, который обозвал ее «полумонахиней-полублудницей», и, естественно, что в советской школе было просто неприлично даже называть имя такого поэта. Все это и определяло наши вкусы. Как сейчас помню, в то время стихи Симонова для меня были одной из вершин поэзии! Множество их я знал наизусть, и прошло немало времени, прежде чем я понял, что в этих стихах, за редким исключением (вроде «Жди меня»), поэзия даже не ночевала.
А здесь, в Темиртау, мы узнали не только о Гумилеве и Мандельштаме. Спектр пристрастий Михаила Осиповича был чрезвычайно широк и в чем-то уникален. Не представляю, от кого еще в те времена я мог бы услышать о таких поэтах, как Агнивцев, Олейников, Заболоцкий, или Штейнберг и еще о десятке менее значимых, но тоже очень интересных авторов.
По-разному протекало наше знакомство с новыми поэтами. Иногда все начиналось со знаковых их произведений, как это случилось, например, с Николаем Агнивцевым. Эту фамилию М. О. впервые произнес, когда прочел для нас его «почти-реквием» по «блистательному Петербургу»:
Когда голодает гранит.
Был день и час, когда уныло
Вмешавшись в шумную толпу,
Краюшка хлеба погрозила
Александрийскому столпу.
Как хохотали переулки,
Проспекты, улицы!.. И вдруг
Пред трехкопеечною булкой
Склонился ниц Санкт-Петербург!..
И в звоне утреннего часа
Скрежещет лязг голодных плит!
И вот от голода затрясся
Елизаветинский гранит!..
Вздохнули старые палаццо…
И, потоптавшись у колонн,
Пошел на Невский – продаваться
Весь блеск прадедовских времен.
И сразу сгорбились фасады…
И, стиснув зубы, над Невой
Восьмиэтажные громады
Стоят с протянутой рукой!
Ах, Петербург, как страшно-просто
Подходят дни твои к концу!..
Подайте Троицкому мосту,
Подайте Зимнему дворцу!..
Но Михаил Осипович определенно не хотел неожиданно оказаться в ложном положении – как бы пропагандиста «не очень советских» стихов, и потому за этой, почти трагической, одой в тот же вечер могли быть выданы какие-нибудь фривольные вирши того же Агнивцева, такие, как например:
Николетта
Как-то раз порой вечерней
В покосившейся таверне
У красотки Николетты,
Чьи глаза, как два стилета,
Нас собралось ровно семь.
Пить хотелось очень всем!
За бутылкою кианти
Говорили мы о Канте,
Об его императиве,
О Бразилии, о Хиве,
О сидящих vis-а-vis
И, конечно, о любви!
Долго это продолжалось…
В результате оказалось,
Что красотка Николетта,
Чьи глаза, как два стилета!
В развращенности своей
Делит честь на семь частей!!!
Нет! – воскликнули мы хором, —
Не помиримся с позором.
Так мы этого не бросим!
Призовем ее, и спросим!
Пусть сгорает от стыда!
Рассердились мы тогда!
Почему, о Николетта,
Чьи глаза, как два стилета!
Вы связали ваше имя
Сразу с нами семерыми?
И ответ был дня ясней:
Ах, в неделе же семь дней! *
Больше мы ее не спросим.
Слава богу, что не восемь!!!
*И пришлось нам примириться
Слава Богу, что не тридцать.
Ну и, конечно, немалый и почти телячий (может, правильнее сказать – жеребячий?) восторг испытали мы с Юркой, когда как-то однажды М. О. прочел эротическую поэму все того же Николая Агнивцева «Похождения маркиза Гильом де Рошефора». А как могли не восторгаться молодые парни этими великолепными стихами, в которых рассказывалось о разных видах сексуальных утех под общий рефрен: «Любовь многообразна, // Но важно лишь одно – // Любить друг друга страстно, // А как – не все ль равно»! Все это было описано с немалым изяществом, без единого неприличного слова, в чем легко может убедиться современный читатель, прочтя полный текст сего творения в Интернете.
Особое пристрастие питал М. О. к поэтам-авангардистам середины 20-х – начала 30-х годов прошлого века. Я не могу сказать, что несколько необычный образный строй стихов Олейникова или Заболоцкого тогда произвели на меня особенно сильное впечатление. Но некоторые из стихов этих авторов просто не могли не запомниться, и сейчас читатель легко поймет, почему так случилось.
Вот, например, стихотворное послание, с которым Николай Заболоцкий как-то обратился к секретарше редакции по имени Наталья:
Наталья, милая Наталья!
Сказать посмею ль, Натали?
У Ваших ног сидит каналья
С глазами полными любви!
Я неоднократно забавлялся тем, насколько сильное впечатление производит этот стих на любую женщину по имени Наташа. Но хотел бы предупредить – во избежание нежелательных осложнений: всегда при этом рекомендуется без промедления объявить: «это – не я сочинил, упаси Бог! Это поэт Заболоцкий подобным образом обращался к даме».
А можно ли было не запомнить вот такой, очень короткий, но яркий стих Николая Олейникова:
Однажды красавица Вера,
Одежды откинувши прочь,
Вдвоем со своим кавалером
До слез хохотала всю ночь.
Действительно, весело было!
Действительно, было смешно!
И вьюга за форточкой выла,
И ветер стучался в окно.
Так случилось, что как-то на дружеской вечеринке я прочел этот стих – просто для того, чтобы, что называется, «свою образованность» показать. При этом я как-то не учел, что среди нас присутствовала довольно симпатичная девушка по имени Вера. Ее реакция на мое выступление была незамедлительной и прицельно точной: «А что, Виля, в чем же дело? Мне это все очень даже подходит!». Все присутствовавшие были в восторге. Что касается меня, то я уж и не помню, что я лепетал в ответ, но, определенно, был сконфужен до предела. Вот такие могут быть неожиданные последствия от декламации почти невинных стихов!
Иногда, под особое настроение, Михаил Осипович обращался и к более ранней классике, но не всякой, а только к особенно хорошо звучащей. Тогда мы могли услышать, к примеру, «Сон Попова» А. К. Толстого и, ей-ей, его исполнение было не хуже, чем то, что я позднее слыхал у великого артиста Игоря Ильинского. И, конечно, не могу не вспомнить про то, что, благодаря все тому же М.О., мы с Юрой вошли в прекрасный мир романтических стихов Киплинга, и этот мир навсегда остался с нами.
Даже сейчас, 60 лет спустя, я могу услышать, – жаль, что только в воображении, чеканное и трагическое звучание – «Будет вздернут Денни Дивер», а вслед за тем – исполненную героики, внутреннего достоинства и печали, «Мэри Глостер» или, наконец, озорную, и временами даже разухабистую, пиратскую «Балладу о трех котиколовах». Все эти стихи я тогда разучил наизусть и частенько читал для друзей на вечеринках и дружеских встречах.
Вот такой «Университет» организовала судьба для нас с Юрой в Темиртау, в этом Богом забытом и людьми проклятом, месте. И после всего этого вы мне будете рассказывать о печальной участи столичных еврейских юношей, заброшенных «мстительной» Советской властью в дикие места Центральной Азии!?
Ещё несколько слов о нашем старом друге. Мы не очень долго прожили в Темиртау – Юрка трудился на заводе все положенные три года, как полагалось молодому специалисту, а я всего лишь – два, как принятый в аспирантуру Института органической химии АН СССР. За это время наше знакомство с М. О. переросло в дружбу, и в последующие годы, когда мы уже перебрались в Москву, каждый год Фарберг, приезжая в Москву, останавливался у меня. Здесь, уступая просьбам моего семейства, он частенько устраивал читки своих любимых стихов. И в Москве его голос и артистизм исполнения производили на всех завораживающее впечатление, и мои дети до сих пор помнят о нашем замечательном госте, Михаилe Осиповиче (почему-то язык не поворачивался назвать его «дядей Мишей»).
Из московских впечатлений о Фарберге более всего мне запомнился его рассказ о посещении своего стародавнего приятеля Аркадия Штейнберга, известного поэта и переводчика. Здесь я должен признаться, что мы с Юркой узнали о существовании такого поэта только благодаря нашим «поэтическим семинарам» в Темиртау. Еще в то время Фарберг нас поразил, прочитав невероятно мрачное стихотворение А. Штейнберга «Кроме женщин есть еще на свете поезда…» Не могу удержаться, чтобы не привести его целиком, как свидетельство той жути, в которой пришлось в то время жить этому талантливому поэту, да и многим другим незаурядным людям.
Кроме женщин есть еще на свете поезда,
Кроме денег есть еще на свете соловьи.
Хорошо бы укатить неведомо куда,
Не оставив за собой ни друга, ни семьи.
Хорошо бы укатить неведомо куда,
Без оглядки, без причины, просто ни про что,
Не оставив ни следа, уехать навсегда,
Подстелить под голову потертое пальто,
С верхней полки озирать чужие города
Сквозь окно, расчерченное пылью и песком.
Хорошо бы укатить неведомо куда,
Запотевшее окно обстреливать плевком,
Полоскать в уборной зубы нефтяной водой,
Добывать из термоса дымящийся удой,
Не оставив ни следа, уехать навсегда,
Раствориться без остатка, сгинуть без следа,
И не дрогнуть, и не вспомнить, как тебя зовут,
Где, в какой стране твои родители живут,
Как тебя за три копейки продали друзья,
Как лгала надменная любовница твоя.
Кроме денег есть еще на свете облака.
Слава Богу, ты еще не болен и не стар.
Мы живем в двадцатом веке: ставь наверняка,
Целься долго, только сразу наноси удар!
Если жизнь тебя надула, не хрипи в петле,
Поищи себе другое место на земле,
Нанимайся на работу, зашибай деньгу,
Грей худую задницу на Южном берегу!
Или это очень трудно – плюнуть счастью вслед,
Или жалко разорить родимое гнездо,
Променять имущество на проездной билет,
Пухлые подушки на потертое пальто…
Верь солдатской поговорке: горе – не беда!..
Хорошо бы укатить неведомо куда,
Не оставив ни следа, уехать навсегда,
Раствориться без остатка, сгинуть без следа,
С верхней полки озирать чужие города
Сквозь окно, заплеванное проливной луной,
Сквозь дорожный ветер ледяной…
Почему-то тогда в Темиртау, М. О. никаких других стихов А. Штейнберга нам не читал – видимо, подобная дорожная тоска была для него самого слишком хорошо знакомым чувством. Но мельком он упомянул о том, что был хорошо знаком с этим поэтом в далекие времена молодости в Одессе. Так что фамилию Штейнберг я запомнил и был немало обрадован, когда через некоторое время совершенно неожиданно обнаружил великолепные стихи этого автора в сборнике «Тарусские страницы». Это был еще один благой повод с признательностью вспомнить вечера в Темиртау. Ну, а несколько позднее, в один из приездов в Москву Михаил Осипович отправился навестить своего старого друга, Штейнберга. Как он нам потом рассказывал, Аркадию почти совсем перекрыли возможность печатать свои стихи, так что сейчас он с увлечением работает над переводами зарубежных поэтов, что получается у него просто великолепно.
* * *
Михаил Осипович не очень долго проработал журналистом в редакции местной газеты славного города Темиртау – даже при всей его лояльности он не мог не восприниматься как некий чужеродный элемент в системе уж очень тупой советской пропаганды. По какой-то причине из редакции ему пришлось уйти, но его немедленно взяли на работу на Карагандинский металлургический завод и не в роли сотрудника какой-нибудь «занюханной» заводской многотиражки, а на очень уважаемую должность – бригадира прокатчиков! Да, да, не смейтесь, господа и дамы, именно так, я сам видел этот документ! Как же такое могло случиться?
Да очень просто – заводскому начальству не реже чем раз в месяц приходилось выступать с докладами на собраниях по самым разным поводам. Стало быть, в каждом таком случае необходимо было иметь готовый и утвержденный в парткоме текст доклада в полном соответствии с текущим политическим моментом и написанный к тому же приличным литературным слогом. Людей, способных сочинять подобные тексты, вообще очень мало, тем более в таком диком месте как Темиртау. Так вот на заводе быстро сообразили, что Михаил Осипович при его общей культуре и опыте старого газетного «волка» как нельзя лучше подходил на роль такого «речеписца» или, как сказали бы сегодня, спичрайтера (speеchwriter). Но в штатном расписании завода не значилось такой должности, и в результате старого одесского еврея пришлось записать в бригадиры прокатчиков! Помнится, что Михаил Осипович не без гордости вспоминал, что это было сделано по предложению Нурсултана Назарбаева, что был тогда секретарем парткома Казахского металлургического завода и через какое-то время сделался президентом Казахстана. Вот так и никак иначе!
Прошло еще несколько лет, и вот в середине 80-х М. О. Фарберг вместе с дочерью Ольгой и ее семейством отправился на историческую родину – в Израиль, где до самой кончины проживал вполне благополучно, хотя и скучновато, если судить по письмам, которые он присылал мне и Юре. С запоздалым раскаянием я должен сознаться, что не всегда у меня хватало понимания ситуации и элементарной чуткости, чтобы поддерживать живой контакт в переписке со своим старым другом.
Наше знакомство с М. О. произошло совершенно случайно – стоило бы только нас с Юркой изначально поселить не в гостинице, а в общаге (где в конце концов мы и оказались), и вряд ли когда-нибудь представился бы случай познакомиться с журналистом Фарбергом. Ведь Михаил Осипович был существенно старше нас по возрасту, работал в местной газете, и круг его знакомых никак не соприкасался с нашей легкомысленной компанией молодых инженеров. Но не произойди эта случайная встреча, очень многое в жизни моей и Юриной пошло бы по-другому.
Ещё вспоминается, что за все то время, когда мы имели возможность наблюдать Фарберга, я не припомню ни одного случая, чтобы он был небрежно одет. Всегда чистая рубашка, галстук, подтяжки, отглаженный костюм, все, как будто бы он идет на прием к важному лицу. Никогда я его не видел в домашней одежде – халат или, упаси Бог, пижама – такого нельзя было даже вообразить. Видимо, у него выработался определенный dress code, которому он следовал, не взирая на обстоятельства. В этом отношении он был ни на кого не похож из моих знакомых. Его манера была по-хорошему старомодна, что само по себе внушало нешуточное уважение. Возможно еще и потому, что за ней крылось немалое самоуважение, а подобное редко встречалось среди знакомых мне «взрослых людей».
Безусловно очень важно в молодости испытать влияние и даже подружиться с человеком такой высочайшей культуры, такта и деликатности, каким был Михаил Осипович Фарберг! Общение с ним необычайно много значило для нашего общего развития. Про себя могу только сказать, что хотя мне и немало повстречалось в жизни достойнейших людей, но, пожалуй, никто из них не оставил такого следа в моей духовной жизни, как этот удивительный человек. Да будет земля ему пухом!
Мне кажется, что и ему было очень интересно общаться с нами – ведь так нелегко найти аудиторию молодых людей нового поколения, которым ты можешь передать богатство своего опыта и прочувствовать в их ответе реакцию признательности и сочувствия. А что может быть лучшим лекарством, чтобы справляться с чувством одиночества, столь обычным для пожилых людей?