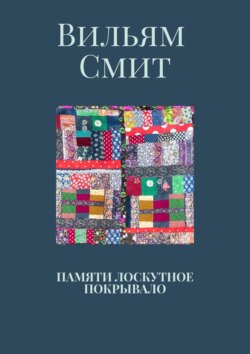Читать книгу Памяти лоскутное покрывало - Вильям Смит - Страница 5
Два года в Темиртау
Темиртау – 4. Личная ретроспектива: сильные личности в моей молодости и «страсти-мордасти»
ОглавлениеЧего только не обнаружишь среди барахла, которое почему-то хранится в закоулках моей памяти вот уже больше 50 лет! Стоит только забросить крючок в прошлое – и вот уж он зацепился за что-то неожиданное и почти позабытое и упрямо тащит его на свет. В этот раз мне вспомнились впечатления, связанные с Ибсеном (!?) и некоторыми персонажами его драм, а за этим потянулись воспоминания о ряде других памятных эпизодах, так или иначе свидетельствующих о необыкновенной роли наивного романтизма в моей молодой жизни.
В те времена я читал все подряд, запоем – особенно не разбирая, что именно попадалось под руку. Вот так в студенческие годы мне и попалась драма Ибсена «Пер Гюнт», и, конечно, я, что называется, «повелся» на героя этой пьесы. Еще бы, независимый и сильный, одинокий и не знающий привязанностей, ищущий чего-то, что и обозначить невозможно, ушедший куда-то в странствия от обыденной жизни и в конце концов потерпевший полное поражение в своих поисках. И тогда, на пороге ухода из жизни, он узнает, что лишь одна из подруг его молодости, уже ослепшая Сольвейг, будет всегда ждать его, старого и сокрушенного жизнью. А еще ему неоднократно приходится «платить по счетам»: перед ним появляются брошенные им любимые женщины и каждая хочет «доли ласк потребовать своей!»
При первой возможности я отправился слушать сюиту «Пер Гюнт» Эдварда Грига. До этого я вообще мало слушал классику, и Григ меня совершенно покорил. Немало можно услышать о не очень глубоком характере этой музыки, скорее живописного, чисто мелодического характера создания образов, ну и что из того – мне это все эмоционально было очень близко. И, конечно, песня «Сольвейг» не могла меня не очаровать. Чье это было исполнение – я не помню, но в недавнем исполнении Анны Нетребко эта ария прозвучало совершенно блистательно, – даже готов признать, что лучше, чем у забытой мною певицы 50-х годов.
За «Пер Гюнтом» последовали и другие ибсеновские драмы – запой он и есть запой. Следующим, насколько я помню, был «Бранд» – почти противоположность Пер Гюнту. Герой пьесы – человек железной воли, одержимый достижением поставленной цели и способный для этого пожертвовать всем, даже самым дорогим. Естественно, что другие люди при этом просто не принимаются в расчет. Такой сильный человек 19-го века, очень впечатляющий своей целеустремленностью и непреклонностью – чем не образец для подражания для романтически настроенного молодого человека, искателя смысла жизни! Все это в чем-то перекликается с известной максимой из Данте, которую очень любил вспоминать мой папа: «Следуй своей дорогой, и пусть люди говорят что угодно».
Естественно, что в конце концов герой пьесы Бранд, в полном соответствии с законами ибсеновской драмы, оказывается мучеником – рабом своей собственной воли. Во всех своих начинаниях он терпит сокрушительное поражение. Его принцип жизни – «Полной мерой!» (Quantum satis!) оказывается губительным для всех: его проклинает поверивший ему простой народ, гибнут все близкие ему люди, а в конце концов он сам погибает под снежной лавиной – очевидным символом всесильного Рока.
Из других драм Ибсена, прочитанных в то время, помню еще «Борьбу за престол», где, в частности, очень интересно представлена вечная коллизия Властитель – Дружба – Певец. В пьесе выводится образ певца-бродяги Ягтейра, который включился в борьбу за власть близкого ему по духу мятежного ярла Скуле. Но при этом сам певец ни за что не хотел поступиться своей личной свободой. Когда же ярл Скуле захотел, чтобы любимый им поэт, почти сын, стал рядом с ним как самый дорогой соратник, тот гордо ответил: «Достойно сложить голову за дело другого, но жить можно только для своего». Помнится, что меня уже тогда поразила эта, буквально рубленая, точность такой позиции, и я принял ее безоговорочно как одну из очень важных заповедей жизни.
И еще забавно вспомнить, как я чуть было не «претерпел» из-за увлечения Ибсеном. В те далекие времена, конца 40-х начала 50-х годов, по всей стране полным ходом шла кампания по разоблачению так называемых «безродных космополитов», которые осмеливались допускать, что не все так уж плохо на «растленном» Западе и кое-чему мы могли бы там и поучиться. Именно в те времена родились «патриотические шуточки», наподобие таких как: «Россия – родина слонов!», «советский карлик – самый высокий карлик в мире», а «советский паралич – самый прогрессивный!» И вот какой-то бдительный товарищ на родном химфаке (до сих пор не знаю, кто был этот сукин сын), взял да и накатал злодейскую статейку в нашу стенную газету, в которой сообщил для сведения комсомольской организации, что вот Вилька Смит, который, между прочим, является членом курсового бюро комсомола (был грех, на самом деле являлся и очень активным), почитывает «декадентского» писателя Ибсена и даже пропагандирует его «упадочнические» взгляды. Сигнал был подан четкий, но реакция партийных руководителей оказалась неожиданно мягкой – все-таки официально Ибсен не считался «вражеским агентом», да и пьесы его пока еще значились на афишах московских театров. Поэтому «старшие товарищи» поступили великодушно и не стали устраивать публичной порки-осуждения моего предосудительного поведения. Просто в частном порядке мне было посоветовано не очень увлекаться чтением подобного рода литературы и уж, во всяком случае, не проповедовать индивидуализм героев Ибсена среди своих товарищей.
Я, конечно, и не думал проповедовать кому-нибудь подобные вещи, но для меня самого чтение Ибсена не прошло бесследно. Ореол романтики беспутного бродяги Пер Гюнта или героической борьбы твердокаменного Бранда («Один против Всех») странным образом будил во мне стремление подчинить свою жизнь какой-то цели, не позволить ей улечься в обыденное русло: семья, дети, работа (что может быть скучнее?). Конечно, прямо перед глазами были многочисленные примеры самоотверженной борьбы коммунистов за идеалы революции, про которые нам рассказывала советская литература. Да и пример жизни моих родителей, искренне веривших в идеалы коммунизма, не мог на меня не действовать. Но все это тонуло в окружавшем нас довольно унылом послевоенном быте, в котором не было места как для безумств, наподобие Пер Гюнта или Бранда, так и для героического служения идеям профессиональных революционеров.
Со временем герои Ибсена для меня как-то померкли, особенно когда я стал читать, также запоем, повести и романы Джека Лондона. Среди его героев на меня наиболее сильное впечатление произвел Мартин Иден в одноименном романе. А что вы хотите? – может ли быть для молодого человека что-либо более привлекательное, чем образ юноши из самых низов, который подчинил всю свою жизнь одной цели – воспитать себя волевым бойцом, способным преодолевать любые препятствия, чтобы пробить себе путь на самый верх общества!
Неукротимостью железной воли подобных персонажей я действительно восхищался – наверное более всего от того, что сам был малого росточка (на первом курсе – 160 см), физически довольно слабым, да и волевым характером не отличался! Неудивительно, что при подобном романтическом настрое мне был прямой путь в геологи, разведчики-поисковики, и я всерьез подумывал после школы поступать в Московский Геологоразведочный институт (МГРИ). Но этому мешало то обстоятельство, что в старших классах я пристрастился к химии и особенно мне понравилась органическая химия. В своем подвале на Чистых прудах я немало преуспел в освоении алхимического ремесла превращения одних веществ в другие. В те времена особенно увлекательно для меня было «варить» всякие взрывчатые вещества, такие как йодистый азот, гексаген или тринитроглицерин. Многие из этих опытов были вполне успешны, и мне просто очень повезло, что я ни разу не подорвался по-серьезному. Ещё я ходил в химический кружок и участвовал в химической олимпиаде МГУ. Там я выиграл первый приз (до сих пор храню роскошное факсимильное издание «Основы химии» Д. И. Менделеева), на меня обратили внимание и пригласили поступать на химфак.
Именно с этим намерением я и шел по Моховой в ясное летнее утро 1948 года. Дорога на химфак вела мимо входа в МГРИ, и тут что-то меня будто толкнуло в бок. Я застыл в нерешительности, увидел какой-то стенд со множеством фотографий и стал подробно изучать все, что было там представлено о профессии геолога и чарующих перспективах бродячей жизни вечного путешественника. Соблазн был почти непреодолимым, как говорится, «под ложечкой засосало», – а может быть, мне все-таки стать геологом: костры, палатки, неведомые края, тайга и горы, открытия месторождений золота и даже алмазов – как же это все меня манило! Но – тут я взял себя в руки и обругал за позорную слабость – я уже решил, что буду химиком —открывателем новых реакций, а чуть было не поддался первому же соблазну!? А ведь в это время я хорошо осознавал, что настоящий сильный человек не должен давать себе послаблений ни в чем. Даже в мыслях ему не пристало менять свои решения!
Буквально с первых же дней учебы на химфаке я напросился, чтобы меня пристроили к работе в лаборатории. Вскоре под руководством доцента А. Н. Коста я смог включиться в экспериментальную работу. Началось все с «полноценного» пожара, что я устроил уже в первую неделю своей трудовой деятельности. На свое счастье – я сам его и погасил, хотя и не без труда. Меня, конечно, зверски отругали еще и потому, что горел не какой-нибудь «невинный» эфир или ацетон, а бензол, а копоть от горящего бензола очень трудно отмывать. Впрочем, мне самому и пришлось в этом убедиться. Но этот пожар оказался для меня чем-то вроде «прописки», после него я стал считаться своим человеком в лаборатории профессора А.П.Терентьева.
Ну, а как же с неуемной страстью к бродяжничеству? Оказалось, для этого совсем необязательно было идти в МГРИ и становиться геологом. Все просто: в МГУ была турсекция, открытая для всех алчущих походной жизни, и уже к концу первого курса я стал завзятым туристом. Буквально каждое воскресенье – походы по Подмосковью, а как венец всего – лыжные походы на каникулах. Сначала это было то же Подмосковье, потом Валдай и следом Урал, и, наконец, – Кольский полуостров, где мы вчетвером провели две недели зимних каникул в Хибинах, изведав все радости первобытной жизни среди девственных снегов. Снега по пояс, где приходилось «тропить» путь, двухпудовые рюкзаки, спасительные костры по вечерам и ночевки в общем спальном мешке в заледенелой палатке в двадцатиградусные морозы – все это не могло не оставить самого сильного впечатления.
Постепенно мои скитальческие пристрастия стали меняться. Меня совершенно неудержимо потянуло в горы. Изначально я не мог даже представить себе, как это вообще возможно все время идти вверх на гору, преодолевая горные реки, скалы и ледники. Мне казалось, что это доступно лишь каким-то особо сильным людям, и мне с моей хилостью просто нечего делать в горах. Как же я вдруг удивился, когда случайно узнал от моего шефа А. Н. Коста, что все на самом деле просто и даже прозаично: «Запишитесь на занятия альпсекции, походите на лекции и тренировки, сдайте зачет и, если все будет в порядке, получите путевку в альплагерь, где Вас всему научат».
И вот окончилась летняя сессия после первого курса и настал черед главного экзамена. Строгие ребята из альпсекции сурово допросили меня о способах прохождения разных форм горного рельефа, проверили мою способность вязать всякие там «булини», «прусики», «шкотовые» и «брам-шкотовые узлы», заставили пролезть не очень сложную стенку на развалинах Царицынского замка и удержать веревку на страховке при сильном рывке. Из теоретических вопросов мне было задано только два. Первый: «Ледопад – это процесс или явление?» и второй: «Что ты будешь делать, если твой напарник по связке сорвался с гребня?» Ледопадов в своей жизни мне как-то не приходилось видеть, и мой ответ на первый вопрос был довольно уклончивым. Зато на второй вопрос я чисто интуитивно ответил: «Немедленно прыгну в другую сторону!» – оказалось, именно такого ответа от меня и ждали. Дальше все было вполне прозаично: путевка в альплагерь оплачивалась нашим профкомом, и там же мне выдали дотацию на билеты на поезд. Мои родители никогда на юге не бывали, про альпинизм и горы вообще ничего не знали, но кто будет возражать, если у сына появилась возможность почти задаром поехать отдыхать на юг!
Альплагерь «Алибек» в Домбае – пожалуй, именно там я впервые почувствовал притягательную силу гор, ощутил тот невероятный вызов, который горы бросают человеку, и удивительные впечатления от чувства близости со всеми, с кем ты идешь наверх. Двадцать дней сказочной жизни в горах с инструктором (для нас – полубогом!) Лионелем Черновым, скальные и ледовые занятия, костры и вечера песен, пара простейших восхождений (Семенов-Баши и Софруджу). Ну, и в заключение всего поход к морю через Клухорский перевал – вроде бы не так уж много. Но когда я вернулся в Москву, мне уже стало в общем ясно, что горы, восхождения, братство альпинистов – все это вошло в мою жизнь как то, самое заветное, от чего я вряд ли смогу когда-нибудь отказаться.
Но запомнилось и еще кое-что от того лета. При спуске с Софруджу в камнеопасном кулуаре камнем перебило ногу девушке из нашего отряда. Стало быть, потребовалась транспортировка пострадавшей по осыпи до тропы и далее в лагерь. Лиль Чернов придирчиво осмотрел свое отделение, выбрал четверых самых рослых парней, а меня и еще одного такого же малорослого «хиляка» вместе с двумя девушками отправил в лагерь. Я пытался протестовать как мог, но Лиль и слушать не желал: «Бегите скорее в лагерь и пусть пришлют к нам еще с десяток разрядников посильнее». Боже, как же я был обижен тогда подобным унизительным отстранением от настоящей «мужской» работы!
Видимо, эти мои «стенания» были услышаны некими «Высшими силами». Так или иначе, но в следующие 15 лет мне столько раз пришлось участвовать в спасработах в горах (иногда не только предельно трудных, но и довольно опасных!), что берусь утверждать, что сполна получил компенсацию за ту обиду, что в юности была мне нанесена жестоким приговором инструктора Чернова.
Уместным кажется вопрос: понятно, что походы на равнине и в горах были для меня выходом из скучной прозы повседневной городской жизни – ну и чего об этом вспоминать? Ведь через подобные романтические увлечения в юности проходят все или почти все? Наверное, это так, но мне вспомнилось обо всем этом еще и потому, что этот юношеский романтизм довольно долго не покидал меня и на самом деле очень существенным образом сказался на последующей жизни. Ну что же, сейчас можно оглянуться назад и попробовать проследить, как оно все менялось с возрастом? Что ушло необратимо, а что до сих пор, как мне кажется, осталось во мне?
Конечно, мой «побег» из вполне уютного места в Мосочистводе (ударение надо ставить на начальный слог Мос!) в какое-то никому не ведомое азиатское Темиртау (здесь ударение должно быть на окончании тау, гора, тюрк.) сам по себе воспринималось моими родными и друзьями как романтическая нелепость, близкая к патологии. А я – я себя очень зауважал и чувствовал почти счастливым от того, что решился на этот, прямо скажем, не очень осмысленный поступок. Ведь идти вперед «наперекор всему» (и даже здравому смыслу!) – это первый признак человека сильной воли, такого, как например, ибсеновский Бранд. Тогда я еще не знал про Козьму Пруткова и его мудрый афоризм: «Бывает, что усердие превозмогает и рассудок».
Однако шутки в сторону – именно Темиртау явилось тогда для меня почти идеальным полигоном для тренировки собственной «железной воли». Для этого, в первую очередь, была важна простота организации жизни. Я работал сменным химиком в цеху, что отнимало у меня шесть часов в день, а все остальное время принадлежало целиком мне, и я мог распоряжаться им, как хотел. Я решил, что три часа каждый день у меня будет уходить на иностранные языки: в программе углубленное изучение английского и освоение начальной грамоты французского и немецкого языков. Не менее двух часов должны были быть отданы поддержанию физической формы, включающему усиленную зарядку с утра и что-то вроде тренировки (бег, лыжи) днем. Иными словами, я предполагал в дополнение к моей работе на заводе устроить себе еще почти полновесный рабочий день в учебе и на тренировках. Да, скажет искушенный читатель: знаем мы этот юношеский максимализм, все эти программы – против прозы жизни они устоять не могут, и уже через пару-другую месяцев о них и не вспоминают.
Но по отношению ко мне, тогда очень молодому и наивному романтику, этот скепсис был абсолютно не применим: принятая мною тогдашняя житейская программа выполнялась неукоснительно, без каких-бы то ни было скидок на воскресные или праздничные дни, или же еще какие уважительные «форс-мажорные» обстоятельства. К примеру, обязательная ежедневная часовая зарядка с гантелями могла делаться в четыре утра, если моя рабочая смена начиналась в шесть, или в полдень, если была ночная смена и с работы я приходил в семь утра.
Естественно, что подобная «упертость» вызывала немало насмешек от приятелей. Особенно в первые месяцы моей жизни в Темиртау, когда оказалось, что я совершенно не склонен изменять принятое мной личное расписание, даже если это требовалось для участия в вечеринках, для хождения по гостям или просто трепотни. Получалось так, что я был почти исключен из жизни нашей молодой компании. Но что поделаешь, у каждого могут быть свои «бзики», и мало-помалу друзья примирились с моими чудачествами. В конце концов это перестало восприниматься как просто «дурья блажь» или – что много хуже – как свидетельство высокомерного снобизма. Временами я даже ощущал нечто похожее на уважение к моему, столь явно выраженному, стремлению не транжирить время на пустяки, а использовать его по максимуму для подготовки к поступлению в аспирантуру. А я с самого начала четко обозначил для себя именно это, как свою главную цель пребывания в казахской глубинке. Но имелся еще один и, может быть, самый важный стимул для всего моего «геройства» a la Martin Eden.
Дело в том, что в Москве я оставил не только родителей и друзей. Мне пришлось расстаться еще и с любимой девушкой – и должен признаться, что это было тяжелее всего перенести. Как я уже говорил раньше, роман этот начался еще в горах на Памире и продолжался все время нашего обратного пути домой, а потом еще несколько недель в Москве, пока я старался оттянуть неизбежное – свой отъезд по распределению в Темиртау.
Конечно, было бы нелепо, если бы я попытался в этих записках передать свои эмоции того времени – все это было неоднократно описано классиками мировой литературы. Понятно, что соревноваться с ними я не могу даже в самых безумных мечтах графомана. Однако же в памяти у меня сохранилось ощущение, что для нас с Нэлкой (напомню, что так звали возлюбленную) погружение в наши романтические отношения было своеобразным открытием нового континента или, если хотите, даже целого мира. Все наши чувства переживались нами так сильно и с такой самоотдачей, что казалось ничего подобного никто и никогда не испытывал. Боже, как это смешно! – наверное, так я должен к этому относиться сейчас, с «высоты»» своих 87 лет! Но стоит мне взять в руки наши письма тех далеких времен, как в этих полуистлевших листках я нахожу такие свидетельства искренности и возвышенности наших чувств, что абсолютно неуместными кажутся какие-либо насмешки со стороны зрелых и якобы «уже все познавших» людей. А, между прочим, писем таких было не просто много, а очень много – весь первый год почта доставляла в Москву и обратно по 2—3 письма каждую неделю.
Могут спросить – как такое может быть? Откуда такое богатство событий и впечатлений у вполне обыкновенных молодых людей в их обыденной жизни в глухой провинции? Все просто и даже примитивно: вообще-то в жизни каждого в любой день жизни что-то происходит, о чем можно сразу сообщить близкому человеку. Если же писать не чаще, чем раз в месяц, то быстро убеждаешься, что ничего по-настоящему значительного за это время не произошло и, на самом деле, писать просто не о чем. Парадокс? Ничуть, это абсолютно логичное заключение, и в его справедливости каждый легко может убедиться, если захочет, на собственном опыте.
Я уже писал o том, что судьба преподнесла мне, так сказать, «в одном флаконе» вместе с черной меткой, в виде путевки в Темиртау, еще и неожиданную удачу – в Караганде, конечной станции моего путешествия, я встретился с Юрой Тувиным (сейчас он – Тувим). Я не любитель мистики, но с уверенностью могу сказать, что наша встреча с Юрой была в некотором смысле предопределена. А как можно к этому относиться иначе, если буквально в течение первых же недель выяснилась полная схожесть в нашем отношении к жизни и к людям вообще и какое-то очень теплое и заботливое отношение друг к другу. К моему немалому удивлению, я обнаружил, что этот, случайно встреченный, человек вдруг оказался для меня самым близким другом. Именно от Юрки, я и перенял привычку часто писать письма – он сочинял послания своей любимой девушке гораздо чаще, чем я, – каждый день!
Не знаю, считать ли это наивностью юности или чем-то еще, столь же простодушным, но в те далекие времена я действительно верил в то, что нам с Нэлкой разлука не страшна. Почему-то тогда мне даже в голову не пришло, насколько точно мои эмоции вписывались в рамки хорошо знакомой и слегка ироничной зарисовки, давно созданной классиком в образе Ленского, который: «верил, что душа родная // Соединиться с ним должна, // Что, безотрадно изнывая, // Его вседневно ждет она;».
Но, признаюсь, что даже если бы в свое время мне и вспомнились эти слова о Ленском, я бы и не подумал их применять к себе – я ведь был не из романтического Геттингена XIX века, а из вполне реальной Москвы XX-го! Для меня гораздо более актуально и убедительно звучали слова А. И. Куприна из невероятно трогательной повести «Олеся»: «Разлука для любви то же, что ветер для огня: маленькую любовь она тушит, а большую раздувает еще сильней». Я не мог удержаться, чтобы не переправить Нэлке это высказывание, и, естественно, получил восторженно-утвердительный ответ: «Ну прям, про нас с тобой!». Хорошее начало для эпистолярного романа, не так ли?
Весь первый год пребывания в Темиртау проходил для меня в «послушничестве идеи железной воли», подкрепленном не менее требовательной идеей служения нашему возвышенному чувству. Наверное, со стороны это выглядело довольно комично, когда совсем еще молодой парень ведет аскетичный образ жизни, почти не ходит на выпивки, не ухаживает за девушками, даже в кино и на вечеринках всегда держится двух-трех своих приятелей – явно что-то у него не все в порядке, в голове или в другом месте. Почему-то посредине зимы этому чудаку взбрело в голову обзавестись коньками и вечерами закладывать круг за кругом на местном стадионе – в одиночку? что за блажь? Для кого блажь, а для меня это было частью рабочей программы: Нэлка обожала бегать на коньках, мог ли я отстать, хотя коньки я ненавидел!
А еще она записалась в горнолыжную секцию. Здесь с горами было все в порядке – на противоположном от нас пустынном берегу Темиртауского озера стояли довольно высокие холмы. Но я даже не подозревал о существовании горных лыж и специальных ботинок, а просто купил широченные и длиннющие охотничьи лыжи, кое-как приспособил к ним крепления и отправился в путь. Никакого понятия о технике поворотов на спуске у меня не было.
Но все это не могло меня остановить, и вот я уже лечу с вершины холма вниз, изо всех сил стараясь «загребать» лыжами, чтобы таким «методом руления» заставить их повернуть направо или налево. Последовало неотвратимое паденье, но я снова наверху и снова поехал вниз – с тем же результатом. Тут я решил, что, наверное, я просто не разогнался как следует, и в очередной раз доехал почти до низу, но тут наст провалился, и со всего размаху я плюхнулся ничком в снег. Встал, вся рожа в крови, и уныло побрел домой через заметенное снегом замерзшее озеро, осознавая с грустью, что горнолыжник из меня не получится.
На следующий день было очень забавно видеть лица моих лаборанток, сочувственные и недоверчивые, когда я пытался им объяснить, что моя исцарапанная физиономия – результат катания на лыжах. Никто при этом не произнес вслух обычное для таких случаев – «Пить надо меньше!», но и без таких слов все было понятно. Много позже я понял, что тогда, в Темиртау, я пытался применить для поворотов на лыжах технику Гайаваты, когда он плыл на каноэ: «Мысль ему веслом служила, а рулем служила воля!». Как известно, эта техника великолепно работала в случае индейского вождя. А вот моей силы воли явно не хватило на то, чтобы управлять лыжами.
Подошёл конец долгой и жесткой казахстанской зимы, и меня неудержимо потянуло в Москву. С немалым трудом я устроил себе отпуск за свой счет, купил билет на самолет (деньги я тогда зарабатывал немалые!), и вот я уже сижу на центральной аллее МГУ, ведущей к главному входу, и жду свою ненаглядную. Вот и она, такая же прелестная, как и была полгода тому назад на Казанском вокзале, когда провожала меня в мою Азию. Но что это? Она, вместо объятия и поцелуев, осторожно отстраняется и просит, чтобы я ее выслушал. Вы можете меня расстрелять, но я не запомнил ни слова из того, что она мне сказала, кроме общего смысла, увы, очень банального: «Все между нами кончено, и мы больше не должны встречаться». Слова, наверное, были другими, но это все неважно. Важно, что я прекрасно помню свое тогдашнее ощущение – будто бы получил «обухом по голове». Все, что я смог тогда выдавить из себя, было: «Прошу тебя уничтожить все мои письма». Что мне немедленно и обещали.
Как я буду теперь жить? – с этим вопросом, понятное дело, не имевшем ответа, я провел следующую неделю жизни в Москве, слоняясь между Университетом и домом, встречаясь с родными и друзьями. Почти все из встреченных мною после первых же слов приветствий смотрели на меня с нескрываемым сочувствием и начинали допытываться, что это такое со мною приключилось. «Укатали Сивку крутые горки!» – так полушутя-полусерьезно заключил один из моих приятелей. Иногда, чтобы никого не видеть, я наведывался в кинотеатры смотреть какие-то фильмы, название которых припомнить нет никакой возможности. Одним словом, в чистом виде убивал время (которое так бережно расходовал в Темиртау!). А потом маятник также неожиданно качнулся обратно…
Случилось так, что я, будучи в настрое, ну совершенно мизантропическом, взял да и отправился на три дня в майский поход с друзьями из альпсекции МГУ. Просто в надежде хоть как-то рассеяться. И там, в один восхитительный весенний вечер, когда мы всю ночь провели у костра – что может быть веселее в молодости, чем шутки, песни, байки и розыгрыши в компании таких дорогих людей, – ближе к утру оказалось, что мы с Нэлкой сидим почти рядом. Я не в силах был никуда уйти, а просто старался даже не глядеть в ее сторону. Вдруг она как-то по-особенному взглянула на меня, мы поднялись и пошли прочь от костра. И тут я услышал: «Вилечка, забудь о том разговоре в Москве. Это была просто нелепая ошибка. Я тебя по-прежнему люблю!». Остаток ночи мы бродили по лесу, взявшись за руки, и у меня было такое чувство, что я воскрес в буквальном смысле слова и осознал, что снова живу, да, да – живу!!
О продолжении мне не очень интересно вспоминать. Были последние три дня моего майского пребывания в Москве, которые прошли как в счастливом тумане. Потом был снова Темиртау и на пару месяцев очень душевное продолжение нашего романа «в письмах». Затем в июле мы оказались вместе на Кавказе, в Адырсу – я инструктором в альплагере «Химик», а Нэлочка как разрядник на сборе МГУ.
Мне предстояло еще год отработать в Темиртау, а Нэлке закончить дипломную работу на физфаке МГУ. Понятно, что только после этого можно будет говорить о каких-то планах устройства семьи. Значит, снова разлука – ну и что, к этому мы уже привыкли. К тому же верилось, что в этот раз «ветер разлуки» уж точно не сможет погасить наши чувства (все по Куприну!).
Но судьбе было угодно решить все совершенно иным образом. За какие-то две-три недели, что я смог провести в Москве перед возвращением в Темиртау, наш роман пролетел от пронзительной «станции»: «Не могу себе представить, как я буду жить без тебя» (ее подлинные слова, и я их помню по сей день) до конечного тупика: «Расстанемся навсегда. Так будет лучше».
Второй раз – «обухом по голове» – уже не так больно, как в первый, но долгое время мне не давал покоя совершенно дурацкий вопрос: «Почему это могло случиться? Чем же я не хорош?». Для меня, с моими юношескими комплексами неполноценности, было очень легко приписать себе какие угодно изъяны. Но ответ был самоочевиден: в то время нельзя было представить себе ничего более абсурдного, чем картинка под названием «Вилька – отец семейства». В самом деле: совершеннейший голодранец, ни кола ни двора, с сомнительной репутацией («просто так» – не вышлют из Москвы с красным дипломом на завод в азиатскую глушь), с явно подозрительной родословной: мама – еврейка из Сморгони, отец – и вовсе из Америки (американец! только этого нам не хватало!). Мне же в то время даже в голову не могло прийти взглянуть на мои проблемы под таким, совершенно нормальным, углом зрения.
Но, видимо, родители моей Нэлки были более «зрячими» людьми. К тому времени наш роман не был для них тайной, и они были изрядно обеспокоены несколько необычной личностью избранника дочери. И вот как-то раз любимая мне сказала, что ее мама/папа хотели бы со мной познакомиться.
Смотрины состоялись в Большом театре, куда я пригласил моих будущих родственников на оперу «Царская невеста». Уступая настояниям Нэлки, по такому случаю я заменил мой привычный свитер на пиджак и даже прицепил галстук. Попутно замечу, что с тех давних пор во мне осталась острая нелюбовь к пиджакам, а что касается галстуков, то их я вообще выкинул из своего гардероба. В антрактах я старался поддерживать светский «культурный разговор» о постановке спектакля, об исполнителях – мне особенно запомнился баритон в роли Григория Грязного. Спросили о моих делах – я поделился планами поступления в аспирантуру, с охотой рассказывал про свое семейство. Даже объяснил, откуда у меня такие имя/отчество/фамилия. Но все это меня не спасло от провала – я не услышал в свой адрес ни одного приветливого слова. Конечно, формально все выглядело вполне пристойно, но главное заключение читалось безошибочно: «Он (т.е. я) не нашего племени! Его странные для нашего слуха имя, фамилия, отчество слишком уж чужие. Трудно ожидать, что в дальнейшем этот странный юноша найдет возможность применения своим способностям (если, конечно, таковые у него имеются). Квартиры нет, связей никаких… И что: вот так, взять да и отдать за него свою дочь?»
Я, конечно, так и не узнал доподлинно, что конкретно побудило мою девушку к окончательному разрыву наших отношений, но довольно скоро принял его как нечто неизбежное. Просто мне стало ужасно плохо. Как приклеенные ко мне, звучали слова, вложенные Ю. Тыняновым в уста Пушкина, и адресованные его лицейскому другу Кюхельбекеру: «Люблю тебя, как брата, Кюхля, но, когда меня не станет, вспомни мое слово: ни друга, ни подруги не знать тебе вовек. У тебя тяжелый характер»! Между прочим, Кюхлю звали также, как и меня (Вильгельм – это немецкий вариант того же имени Вильям).
Помнится, что меня ужасно задело то, с какой легкостью Нэлка буквально «выдала» мне финальный отказ всего лишь через несколько дней после самых пылких признаний. Со временем все это перестало меня удивлять, особенно, когда мне случайно попались на глаза слова одного из монологов Гамлета в начале шекспировской трагедии: «О, женщины, вам имя – вероломство!» (перевод Б. Пастернака). Не правда ли, звучит вполне утешительно во всех подобных ситуациях. Совсем недавно по какому-то случаю мне захотелось проверить точность этой цитаты. Оказалось, что с цитатой все в порядке – я ее правильно запомнил, но, к моему немалому удивлению, выяснилось, что перевод Б. П. имеет мало общего с оригиналом Шекспира. Действительно, в оригинале фраза звучит так: Frailty, thy name is woman! Если взглянуть в современные словари, то слово Frailty может означать:
1) слабость, хрупкость, бренность, немощь, непрочность
2) нежизнеспособность
3) немощность
Стоит упомянуть, что русскому слову «вероломство» в английском языке соответствуют два слова, почти синонимы: «treachery» и «perfidity». Не трудно видеть, что ничего даже близко приближающегося по смыслу к понятию «вероломство» не содержится в «отзыве» Гамлета о женщинах. К тому же отмечу, что в оригинале у Шекспира эти слова даны в форме единственного числа, как упрек, адресованный конкретной женщине (его матери Гертруде), при чем frailty выступает в роли подлежащего в этой фразе. Вспомним также, что в тот момент Гамлет еще ничего не знает о том, что его отец был злодейски убит. А в переводе Пастернака эта же фраза начинается со слов «О, женщины…» и звучит она почти как приговор, адресованный всей прекрасной половине рода человеческого.
Не берусь предполагать, что побудило Бориса Леонидовича к такому ужесточению той, в общем-то довольно снисходительной, оценки поступка конкретной женщины, своей матери, что прозвучала в словах Гамлета. Примечательно, что в черновиках перевода пьесы у Пастернака приводится весь тот перечень вариантов словарных значений слова «frailty» на русском языке, что приведен мною выше. Трудно удержаться от предположения, что выбор слова «вероломство», резко отличного по смыслу от всех этих вариантов, не был совсем произвольным для поэта, а скорее случился как отражение мотивов чисто личного характера. Вряд ли можно сказать об этом в более определенном смысле – во всяком случае, я бы не хотел здесь этого делать. Но любой желающий может обратиться к автобиографической «Охранной грамоте», а также письмам Б. Л. и его родных, чтобы понять, с какими глубочайшими драматическими потрясениями поэт сталкивался в молодости, переживая перипетии своих любовных романов. В частности, именно об этом сказано в одном из замечательных стихотворений раннего Пастернака «Марбург».
Если же снова вернуться к словам Гамлета, то мне кажутся определенно более адекватными другие варианты их перевода, как например: «Бренность, ты // Зовешься: женщина!» (М. Лозинский,1933г) или «Слабость – имя // Твое, о женщина!» (Анна Радлова, 1937). Во всяком случае, с высоты своего жизненного опыта я могу определенно утверждать, что среди мужчин вероломство встречается не реже, чем среди женщин.