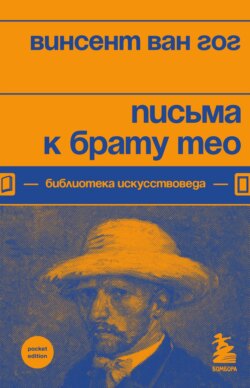Читать книгу Письма к брату Тео - Винсент Ван Гог - Страница 2
Путь художника
ОглавлениеГолландский и бельгийский период
(отрывок из статьи Н. Щекотова)
Ван Гог начал не с искусства. Он пришел к художественному творчеству сложным путем, через ряд потрясений. Один из первых чрезвычайно острых и тяжелых кризисов был испытан Ван Гогом в самом начале его жизни. После пяти лет примерной работы в качестве служащего в большом антикварном деле его дяди Ван Гог обнаруживает внутреннюю неудовлетворенность своей едва только начавшейся самостоятельной трудовой жизнью. Он пытается ее перестроить.
«Чтобы действовать в этом мире, надо умереть для самого себя; народ, обращающийся в проводника религиозной мысли, не имеет другого отечества, кроме этой мысли. Человек в этой жизни не только для того, чтобы быть счастливым. Он живет, чтобы осуществить великие вещи через общество, чтобы достигнуть благородства души и подняться над мещанством, в котором пресмыкается существование почти всех индивидуумов (Ренан)», – пишет он в одном из своих юношеских писем.
Первоначальное воспитание Ван Гог получил в мелкобуржуазной семье, где еще были крепки устои бюргерской морали. Фамилия Ван Гог была до некоторой степени родовитой; корни ее можно проследить вплоть до эпохи войн Нидерландов за освобождение от испанского владычества. Один из отдаленных предков Ван Гога, Ян Якобсон, жил в XVI веке в Утрехте, где торговал «вином и книгами» и был начальником гражданского ополчения. И в дальнейшем члены этой фамилии занимали различные, иногда довольно высокие общественные должности. Мало того, в течение трех с половиной веков, отделяющих художника Винсента Ван Гога от его предка Яна Якобсона, можно заметить среди членов фамилии Ван Гог некоторую традицию в выборе профессий. Одни из них были богословами, другие работали в области искусства.
Отец художника, окончив свое богословское образование в том же Утрехте, в котором некогда жил дальний предок Винсента, стал пастором в деревушке Грот-Зюндерт, в то время как дядя имел большое дело по торговле художественными произведениями и пользовался весом в кругах, интересующихся искусством.
Винсенту Ван Гогу пришлось с первых же шагов своей трудовой жизни испробовать обе профессии, традиционно свойственные его семье: сначала торговлю художественными произведениями, потом деятельность протестантского проповедника. Обе профессии наложили отпечаток на его жизнь, от которого ему, в общем, не удалось освободиться до самой смерти.
Первоначальное моральное воздействие, которое испытывал Винсент Ван Гог в патриархальном и, в своем роде, добродетельном доме своего отца-пастора, еще усилилось после пребывания в Лондоне. Письма его в то время наполнены оценкой слышанных им проповедей, библейскими цитатами, нравоучительными правилами, обнаруживающими его религиозное настроение и зачастую даже имеющими привкус ханжества.
При переходе Ван Гога на службу в Париж в 1875 году в картинный салон Гупиль это настроение еще укрепилось и выросло: шумная, сложная и чуждая ему жизнь Парижа вызвала противодействие со стороны юноши, проведшего свое детство в сельском окружении.
Все свое развитие, как и развитие своего брата, он пытается сковать законами религиозно окрашенной морали. «Ты так же, как и я, восхищался стихотворениями Гейне и Уланда, – пишет он своему брату Тео, – но берегись, мой мальчик, это довольно опасные вещи. Иллюзия недолго длится, не отдавайся ей».
Даже то, что уже тогда Винсент Ван Гог любил до чрезвычайности, что так или иначе было связано с избранной им профессией, изобразительное искусство не избегло тех же самых сомнений, с которыми он приглядывался к литературе.
«Чувство, чистое чувство красоты в природе, – пишет он брату в это время, – не одно и то же, что чувство, соединенное с верой; хотя, мне думается, и то и другое почти находится между собой в связи… То же самое и с любовью нашей к искусству. Не предавайся ей чрезмерно». Одновременно с этим Винсент начинает впадать в наивный аскетизм, избегает общения с людьми и стесняет себя в пище. «Разнообразная пища вызывает аппетит. Вообще же мы должны прежде всего заботиться о том, чтобы есть простую пищу. Недаром сказано: “Хлеб наш насущный даждь нам днесь…”»
Эта душевная настроенность делала его непохожим на обыкновенного старательного приказчика в модном художественном магазине. Исходя из тех же моральных предпосылок, он считал торговлю узаконенным воровством, принимать участие в котором ему было невмоготу. Раздор, происшедший у него на этой почве с заведующим магазином, привел к его увольнению. Карьера продавца художественных произведений, к немалому огорчению его малообеспеченной и многочисленной семьи, была, таким образом, кончена. Он пытается идти по другой, традиционной для его семьи дороге, дороге проповедника. Мы снова видим его в Англии, где он получает место проповедника-методиста в школе. Одна из его сестер писала про него в это время: «Он становится тупоумным от благочестия». Другая: «Он думает, что представляет собой нечто большее, чем обыкновенный человек, я же думаю, что было бы много лучше, если бы он считал себя простым смертным». Он в самом деле не смог ужиться и в Англии и должен был вернуться в Амстердам.
Семейный совет решил, наконец, помочь ему идти по второй профессиональной линии семьи – по дороге богословия. Ван Гог готовится к экзаменам для поступления в университет, где ему предстоит пробыть семь лет. Но подготовка эта через полгода обрывается. Впоследствии он называет эту пору «худшим временем своей жизни». Еще бы! Именно в этот момент перед ним раскрылась вся искусственность, вся ложь того мира благоустроенной и схоластически обоснованной добродетели, в которую он собирался погрузиться, пройдя ступень за ступенью всю лестницу богословских истин.
«Сижу с головой в работе, так как мне ясно, что я должен знать то, что знают те, которым я охотно хотел бы следовать, и то, чем они были одушевлены. Сказано не зря: “Изучай писание”, это хорошее указание, и я очень хотел бы стать таким знатоком писания, который из своей сокровищницы знания мог бы извлечь и старые, и новые вещи».
«Учить латынь и греческий тяжело, мой мальчик, но я все же чувствую себя счастливым и занимаюсь вещами, к которым я стремился. Я не должен сидеть по вечерам так долго, дядя мне это строжайше запретил, но под гравюрой Рембрандта стоят слова: “В полночь свет распространяет свою силу”, и я забочусь о том, чтобы всю ночь оставалась гореть маленькая газовая лампа, и часто лежу, глядя на нее, обдумывая мой план работы на наступающий день, лежу в мыслях о том, как бы мне лучше продвинуть мое учение».
Эти отрывки из ранних писем Винсента Ван Гога к его брату Тео дают ясную картину тех интересов, которыми была заполнена его амстердамская жизнь в 1877–1878 годах.
Одновременно с тем, как росла напряженность его моральных исканий, росло и оформлялось также и его восприятие жизни и природы.
В тех же письмах, из которых мы только что приводили выписки, находятся, например, такие места: «Начинает темнеть, и вид из окна рядом – на верфь, с маленькой аллеей тополей, стройные формы которых и тонкие ветви так рисуются в сером вечернем воздухе, неописуемо прекрасны. А там старое здание складов у воды, тихой, как воды старого пруда, о котором говорится в книге Исайи. Стены склада у воды позеленели и выветрились. Затем внизу садик, и вокруг изгородь с кустами роз, и прежде всего на верфи маленькие черные фигуры рабочих и собачка. Только что я видел дядю Яна с длинными седыми волосами; вероятно, он как раз в это время делал свой “обход”. Вдали – мачты судов в доке, у старых кораблей совершенно черные, и серые, и красные мониторы. Кое-где зажигаются фонари. Ударил колокол, и целый поток рабочих направляется к воротам; является фонарщик, чтобы зажечь фонарь на площади за домом».
Это невольное отображение бытовой картинки старой Голландии предсказывает точностью своего рисунка будущие произведения Ван Гога. Крайняя внимательность к природе и быту, умение взять главное, напряженность при восприятии, дар проникновенной и острой наблюдательности при способности видеть и компоновать наблюдение по-своему – все эти особенности, обнаруженные Винсентом с юношеских лет, являются предвестниками его будущих художественных концепций. При такой наблюдательности, с одной стороны, и при постоянном соприкосновении с произведениями искусства – с другой, вполне естественно, что Винсент Ван Гог уже рано делает попытки набросать рисунок той или другой чем-нибудь заинтересовавшей его местности. В письмах из Лондона 1876 года мы, например, видим несколько очень острых, в особенности для непрофессионального художника, набросков.
«Я в вечном беспокойстве, – пишет его мать, – что Винсент, куда бы он ни попал или за что бы он ни взялся, из-за своих странных и чуждых воззрений и восприятий жизни везде должен будет сорваться». И Винсент, действительно, всю свою жизнь «срывался» и вечно начинал заново.
Так, сорвавшись на попытке поступить в университет, Ван Гог все же не хочет верить, что при его преданности моральному долгу ему останутся закрытыми пути к служению «униженным и оскорбленным». Он поступает в миссионерскую школу в Брюсселе. Но и здесь он чувствует себя, по собственным словам, «как кошка в чужом амбаре». Странности его манер и небрежность его костюма вызывают насмешки. Главным его недостатком, по мнению лиц, имевших с ним тогда дело, было то, что «он не желал знать подчинения».
После трехмесячного обучения, когда он должен был, согласно уставу школы, получить соответственную должность, ему в этой должности отказывают. В конце концов, при помощи связей, которые были у его отца в среде духовенства, его направляют в Боринаж. Обязанности его здесь заключаются в чтении Библии местному населению и в посещении и утешении больных. Он, наконец, доволен. Цель как будто бы достигнута; желанная деятельность открыта перед ним. «В свое время еще в Англии я хотел получить место миссионера среди горняков и на угольных копях, – пишет он Тео в 1878 году, – но тогда на мои желания не обратили внимания и сказали, что надо для этого иметь по крайней мере двадцать пять лет… На юге Бельгии, приблизительно от Монса до французской границы и даже несколько дальше за ней, лежит местность, называемая Боринаж, где живет своеобразное население из рабочих, которые работают в многочисленных каменноугольных копях. Вот что я нашел, между прочим, в одной географической книжечке: “Углекоп – особый тип в Боринаже. Дня для него не существует, и, за исключением воскресенья, он едва ли пользуется солнечными лучами. Он тяжко работает при бледном, рассеянном свете лампочки, горящей под сводом тесной галереи; с согнутым телом, зачастую вынужденный ползти, работает он, чтобы вырвать из земных недр тот минерал, полезность которого мы все знаем; работает среди постоянных опасностей.
Но бельгийский горняк обладает счастливым характером, он привык к такой жизни, и когда он спускается в шахту, с маленькой лампочкой на шляпе, ведущей его во мраке, он вверяет себя Богу, который видит его труд и защищает его, его жену и детей”».
Нельзя не отметить здесь эту типическую по своему ханжеству и в то же время столь характерную для таких популярных книжечек, издаваемых буржуазией, концовку о счастье бельгийского горняка, в которой забота о нем и о его семье перелагается на Господа Бога.
Винсент вскоре на своем собственном опыте должен был испытать, чего стоит и счастье бельгийского горняка, и помощь, оказываемая ему со стороны небесного покровителя.
Вот несколько отрывков из описаний Винсента, посланных им в письме к Тео из местности Вам в Боринаже (1878–1879 годы). В одном письме он говорит о своем посещении одной из самых опасных в Боринаже копей, под названием Маркасс: «Она пользуется плохой славой, так как в ней, при спуске и подъеме, вследствие удушливых газов, подпочвенных вод или вследствие обвала старых ходов многие погибают. Это мрачное место, и, на первый взгляд, все в окрестности носит на себе печать какой-то печали и смерти. Рабочие тут, большей частью, изнурены лихорадкой, бледные и выглядят утомленными, выветренными и преждевременно состарившимися; женщины, в общем, вялые и отцветшие. Кроме того, здесь много болезненных и прикованных к постели людей, истощенных, слабых и несчастных. В одном доме все больны лихорадкой, и у них мало или даже вовсе нет никакой помощи… “Здесь больной ходит за больным и бедняк друг бедняку”, – сказала одна из женщин этого дома».
Вот какие существенные дополнения и поправки вынужден был внести сам Винсент в свою географическую книжечку. Его первоначальная выдержанность и даже ровность скоро сменились свойственной ему нервностью, экзальтацией и аскетическими крайностями. Для такой смены были налицо еще и другие побудительные причины: к эпидемии тифа присоединилось большое несчастье в копях. Чаша терпения переполнилась – началось восстание рабочих. К сожалению, не осталось писем Ван Гога, относящихся к этому моменту, или, возможно, их просто скрыли.
Во всяком случае, отношения Ван Гога с духовным начальством становятся к этому времени невыносимыми для обеих сторон. «Он не подчиняется желаниям своего начальника; он, кажется, остается глухим к тем увещаниям, с которыми к нему обращаются», – пишет его мать. Наконец, и начальство отказывается дальше держать его миссионером. Миссионерство его можно считать конченным.
Но умерев как миссионер, Ван Гог родился как художник.
Каждый раз, когда он с особенным напряжением предавался своей миссионерской, официальной, так сказать, деятельности, в нем одновременно усиливалось, пока еще подпольно, и тяготение к искусству.
Искусство становилось постоянным противовесом проповедничеству. Это стремление зачастую выражалось у него в очень резких переходах от тяжелых житейских впечатлений к умиротворяющим вопросам искусства. В том же письме, где он описывает невероятные страдания рабочих в мрачных копях Маркасс, тотчас же, без всякого перехода, у него начинается фраза: «Видал ли ты за последнее время что-нибудь прекрасное? Много ли работал Израэльс, а также Морис и Мауве?..»
Такой внезапный переход в устах серьезного и глубоко отзывчивого к людским страданиям человека, каким был Винсент, был бы почти чудовищным по своей резкости и сухости, если бы искусство не служило для него своего рода бальзамом, смягчающим боль ран, нанесенных жизнью.
Искусство действовало целительно на его психику. Сравнительно с действительностью, жизнь в искусстве, в его глазах, была более мягкой, более упорядоченной.
В его письмах впервые проявляется эта роль искусства. Словами и образами он изливает свои переживания. Он создает уже как бы программы картин.
«Я нацарапал рисунок горняков (забойщики и забойщицы), – пишет он брату, – идущих утром в снегу вдоль терновой заросли по тропинке в шахту. Проходящие кажутся тенями, еле различимыми в утреннем сумраке, на заднем плане расплывчато поднимаются большие строения копей… Я шлю тебе набросок, чтобы ты мог себе это представить».
Одновременно Ван Гог изучает по учебникам анатомию и перспективу, а по учебнику рисования и приложенным к нему упражнениям учится рисовать углем. С особенным интересом он относится к собиранию гравюр по дереву, в частности к произведениям Милле, которого он ставит очень высоко.
Художественные симпатии Винсента Ван Гога были направлены прежде всего в сторону барбизонской школы, которая, между прочим, сильно повлияла на ряд голландских художников, живших и уже известных в его время. Барбизонцы вообще объединяли тогда передовые художественные вкусы Франции, Англии, Голландии и Бельгии. За год до того письма, в котором он посылал брату свой набросок углекопов, идущих на работу, Винсент посетил пешком некоторые места, по характеру своему близкие барбизонцам.
«Хотя это путешествие меня почти свалило с ног и я возвратился истощенный от усталости и в довольно меланхолическом состоянии, я все же не жалею, так как я видел интересные вещи; учишься видеть другими главами в тяжких испытаниях нищеты.
Кое-где в дороге я зарабатывал себе кусок хлеба в обмен на рисунки, имевшиеся в моей путевой сумке. Но когда у меня вышли последние десять франков, я должен был проводить последние ночи в открытом поле, раз даже в пустой повозке, утром побеленной инеем. И все же как раз в этой отчаянной нищете я чувствовал, как ко мне возвращается моя энергия… Я видел и еще нечто другое во время этой вылазки, именно: деревни ткачей. Горняки и ткачи – это особенный от других рабочих и ремесленников род человеческий; я чувствую к ним большую симпатию и считал бы себя счастливым, если бы мог в один прекрасный день их нарисовать, чтобы вывести на свет эти еще неизвестные или почти неизвестные типы. Рабочий угольных копей – это человек из глубины пропасти, ткач же имеет мечтательный вид, почти задумчивый, почти сомнамбулистический».
Этот отрывок не нуждается в комментариях: из него ясно, что интересует и волнует Винсента на его новой дороге, дороге художника.
Боринаж, жизнь среди пролетарских масс дала, наконец, более конкретное содержание его художественным устремлениям. Жизнь в Боринаже дала ему художественные образы, во имя которых, он чувствовал, стоило жить и трудиться художнику. Это один из важнейших моментов в его жизни. «Я не могу тебе сказать, – пишет он в том же письме, – каким счастливым я себя чувствую, что опять взялся за рисование, хотя ежедневно появляются все новые затруднения и будут появляться и дальше… Пока для меня дело идет о том, чтобы учиться хорошо рисовать, стать господином своего карандаша, угля, кисти; достигнув этого, я всюду смогу делать хорошие вещи, и Боринаж так же живописен, как Бретань, Нормандия, Пикардия или Брие».
Обращение Винсента к искусству произошло приблизительно в 1880 году, т. е. когда ему было двадцать семь лет. Юношеские годы прошли, начиналась зрелость. А между тем ему приходилось делать то, что свойственно юношеству, – учиться. Учение его к тому же должно было начаться с самых азов, а до конца жизни ему осталось всего десять лет, он умер в 1890 году. Как трагически мал оказался срок для развертывания деятельности такого сложного человека и серьезного живописца, каким он был.
Положение Ван Гога с того момента, как он серьезно принялся за свою учебу, оказалось чрезвычайно унизительным для него: это было положение взрослого человека, испортившего «неизвестно почему» свою карьеру и вынужденного, как говорится, сидеть на шее своих родных, тех, от кого он ушел, кого он оскорбил и продолжал оскорблять своими странными повадками, своими воззрениями, столь противоречившими патриархальной морали пасторских кругов, даже своим наружным видом, роднившим его с представителями люмпен-пролетариата.
Создавшиеся у него отношения с родными, на средства которых он вынужден был учиться, рисуются в его письме 1881 года, посланном им из Брюсселя, куда он приехал из Боринажа, считая этот переезд необходимым для учения. С какой униженностью, с одной стороны, и болью за «ограбляемых» им родителей – с другой, наносил он на почтовую бумагу оправдания своих грошовых трат и набрасывал обманчивые перспективы своих будущих и, увы, никогда не достигнутых им заработков.
Чтобы облегчить и ускорить процесс учения, Винсент делает даже попытки примириться как-нибудь с теми, кого восстановил против себя во время своего столь неудачливого миссионерства. Через брата он принимает меры к тому, чтобы связаться с меценатами, любителями и торговцами художественными произведениями, надеясь в этом кругу найти хоть какое-нибудь сочувствие своему делу. Собираясь ехать для всех этих примирительных процедур в отчий дом, он пишет брату: «Лучше всего, конечно, если бы я провел это лето в Эттене – там достаточно материала для работы, ты можешь написать отцу, что я готов и в одежде, и во всем прочем все устроить так, как им хочется… и в семье, и вне ее всячески обо мне судят и рядят, и вечно слышишь при этом самые противоположные мнения. Я этого никому не ставлю в вину, так как сравнительно мало кто знает, почему художник действует так, а не иначе».
Одновременно Ван Гог всячески старается связаться с передовыми художниками своего времени, в частности со своим родственником Мауве, одобряющим его рисунки и советующим ему заниматься живописью; но Винсент считает это еще преждевременным и продолжает заниматься рисованием по учебнику, отвлекаясь от него только для рисования с натуры.
От времени его пребывания в родительском доме в 1881 году дошел ряд набросков, сделанных в письмах к брату. Как и раньше, внимание его направлено почти исключительно на передачу поз и движений рабочих, вызванных каким-нибудь трудовым процессом. В данном случае – это сельскохозяйственная работа, поскольку только ее он и мог наблюдать в Эттене. Между прочим, он продолжает копировать те же произведения Милле, над которыми работал еще в Боринаже.
В этот первоначальный момент его серьезного и практического отношения к делу художника обращает на себя внимание то, что, несмотря на пользование учебниками рисования, несмотря на изучение, конечно кустарное, анатомии и перспективы, Винсент уже проявляет свежесть и остроту восприятия натуры. Вместе с тем и по тематике своей, по тому вниманию, которое Винсент уделяет процессам труда и выбору рабочего типажа, рисунки свидетельствуют о довольно отчетливом представлении начинающего художника о том, чему его искусство должно служить в будущем. Наконец, знаменательно и то, что Ван Гог, несмотря на большую любовь к старинной живописи и знание ее, предпочитает все же опираться на современных ему мастеров. В это время в его письмах место старых голландцев, Рембрандта, Делакруа, Домье, занимают имена Мауве, Израэльса, Боутона и других современных ему, тогда еще передовых мастеров Голландии, Бельгии и Англии.
Так началась художественная деятельность Ван Гога.
Но уже в самом начале он, по обыкновению, срывается и снова переживает тяжелый внутренний кризис. Кризис этот, приведший Винсента к такой изоляции от общества, которая превзошла все бывшее с ним до сих пор, связан с двумя женщинами, которых он любил. Одна из них принадлежала к тому социальному слою, с которым он боролся, а другая – к люмпен-пролетариату.
Если в ранних конфликтах со средою он затронул два важнейших устоя буржуазного существования: усомнился в законности и моральной правильности права собственности и раскрыл ханжескую, хищническую подоплеку религии и мелкобуржуазной, бюргерской морали, – то теперь ему пришлось больно для себя и для других затронуть и еще один из основных устоев буржуазного общества – семью, положение женщины в этом обществе.
Конфликт начался в доме отца Винсента в Эттене и завершился катастрофой в Гааге.
Среди посетителей пасторской семьи в 1881 году была некая К., молодая вдова с сынишкой, недавно потерявшая мужа. Она заинтересовала Винсента. «Любовь – это нечто положительное, нечто сильное, – писал он брату, – так что для каждого, кто любит, нет возможности сопротивляться этому чувству. Моя жизнь и любовь – одно. Пусть, кто хочет, будет меланхоликом, для меня этого довольно, я не желаю больше ничего, кроме той радости, которой полон жаворонок весной!..»
Не верится, что его любовь была так же беззаботна и проста, как песнь жаворонка. Не поверила ей и К… Она покинула вскоре Эттен, не без воздействия родных и пасторского дома, обеспокоенных увлечением Винсента. Какое возмущение вызвало поведение Ван Гога в Эттене, можно судить но письмам его к Тео за это время: «Я работаю здесь с мая, я начинаю знать и понимать мои модели, моя работа идет вперед, но все это далось мне не без труда… И вот, когда я в пути, отец мне говорит: “Так как ты пишешь письма К… и между нами возникают неприятности… я тебя выставляю за дверь!..” Что бы она сказала, если бы знала, что произошло сегодня утром, – она так добра и приветлива, что ей доставляет сердечную боль вымолвить хоть одно неприятное слово; но когда эти столь сладкие, столь деликатные, столь любвеобильные люди, когда они поднимаются, затронутые за живое, – горе тем, против кого они восстают».
Тяжелая борьба закончилась, как и следовало ожидать, взрывом ярости с той и другой стороны: «Я сунул мой палец в пламя лампы, – вспоминал потом Винсент один из моментов этого взрыва, – и сказал: “Дайте мне повидаться с ней на то хотя бы время, сколько я выдержу руку в пламени”… Но они задули, кажется, лампу и ответили: “Ты ее не увидишь”». И Винсент в самом деле никогда больше не видал К.
Но это было не все. Как за срывом на поприще теологии последовал Боринаж, так за отвергнутой любовью Винсента к К. наступила позднее его глубокая и трагическая привязанность к несчастной, изуродованной жизнью женщине из «подонков» общества, привязанность, окончившаяся тяжким моральным и физическим кризисом, повергшим Винсента в отчаяние. Спасаясь от меланхолии, начинавшей овладевать им после бурного столкновения с «господами жизни», Ван Гог поехал в Гаарлем, потом в Гаагу к своему родственнику, художнику Мауве. Очень характерны те строчки, которые Винсент посвящает своей попытке поучиться у этого тогда уже признанного мастера. Именно такого рода попытками, в самом начале которых уже обнаруживается строптивость характера Винсента и его скептицизм по отношению к учителям, почти что и ограничивалась вся учеба его у современных ему мастеров. Ван Гог всегда был и оставался прежде всего самоучкой в лучшем и трудном смысле этого слова.
Винсент описывает свою встречу с Мауве, или, вернее сказать, свою атаку на этого художника, так:
«И тогда спросил Мауве: “Есть у тебя особое что-нибудь?” – “Да, вот два этюда”. И вот он сказал мне много хорошего про них, слишком много, и несколько критических замечаний, слишком мало. На следующий день мы поставили мертвую натуру, и он начал при этом поучать меня: “Так ты должен держать свою палитру”. После того написал я несколько этюдов и две акварели». В кратком описании встречи с Мауве Винсент проявляет едкую иронию к учителю, не понявшему, что перед ним не новичок, а человек, глубоко продумавший вопросы, связанные с работой художника, и глубоко захваченный этой работой.
Свидание с Мауве и работа с ним не только не успокоили взволнованные чувства Винсента и не избавили его от мучительного одиночества, но, скорее, еще больше подчеркнули последнее. Тогда-то он сделал шаг, который роднит его с некоторыми наиболее трагическими героями Достоевского.
«Все время у меня в мозгу и в теле оставалось ощущение голода, именно в мозгу и в существе моей души, вследствие той воображаемой или действительно существующей церковной стены (он говорит здесь про ту стену, посредством которой от него отгораживалось общество – Н. Щ.). “Но я не хочу подчиниться этому фатальному настроению”, – сказал я себе. И подумал про себя: “Я должен быть с женщиной, я не могу жить без любви… Я не дал бы и гроша за жизнь, если бы не было в ней чего-нибудь бесконечного, глубокого, истинного”».
На улицах города он встречается с женщиной, отношения к которой как бы предсказывают наступление другой, более крепкой и трагической связи, возникшей несколько позднее в том же городе.
«Я нашел женщину, – пишет Винсент, – далеко не молодую, далеко не красивую, не отличающуюся, если хочешь знать, ничем особенным… Она была довольно большая, сильно сложенная. У нее, может быть, и не было дамских ручек, как у К… но руки, как у тех, кто много работает. Впрочем, она не была грубой и пошлой, но имела в себе нечто очень женственное. В ней было нечто от фигуры Шардэна, или Фрера, или, может быть, от Яна Стена. Одним словом, это было то, что французы называют “работницей”… ах, ничего выдающегося, исключительного, ничего необыкновенного… Тео, для меня это, я не знаю, как выразиться, нечто отцветшее, нечто, почему прошлая жизнь имеет бесконечно много прелести…
Я, в сущности, чувствую любовь к таким женщинам, любовь, которая старше, чем любовь к К… Когда мне иногда приходилось в полном душевном одиночестве, смертельно скучая, полубольным, в нищете, без гроша денег в кармане ходить по улицам; тогда я смотрел им вслед, завидуя тем, которые могли быть с ними, у меня было чувство, эти девушки – мои сестры».
В протесте против буржуазного жизнеустроения, в ненависти по отношению к защитникам и носителям этого жизнеустроения Винсент срывается к люмпен-пролетариату. Здесь он находит новые связи с людьми, презираемыми попами и благовоспитанными бюргерами, здесь ищет личной жизни, и здесь же раскрывается перед ним родина его художественных образов, новая красота, красота обыкновенных, ничем не замечательных, кроме своих постоянных страданий и непрестанных забот о куске хлеба, героев и героинь, которые дают ему силы для выполнения новой миссии, – его деятельности художника.
1935 г.