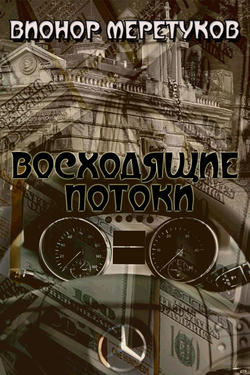Читать книгу Восходящие потоки - Вионор Меретуков - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть I
Глава 3
Оглавление– Ненавижу молодых… – сказал Карл.
Произнеся это, он принялся поворачивать голову слева направо. В его движении было что-то неживое, механическое, что-то от эволюций демонстрационного робота или разворота танковой башни.
Голова Карла двигалась невыносимо медленно. Как в испорченной киноленте. Хотелось встать и помочь Карлу: обхватить его голову руками и вертеть до тех пор, пока она не вывернется из туловища, как лампочка из патрона.
Но тут позвонки угрожающе хрустнули, и движение приостановилось.
Карл, сидевший очень прямо, на минуту закаменел.
Моему взору предстали мощные, царственно расправленные плечи, верхняя часть обнаженной спины с красивым рельефом мышц и коротко стриженый затылок под широкополой соломенной шляпой, украшенной красным пером.
Поскольку я сидел в шаге от Карла, то его огромная шляпа, вдруг ставшая центральной фигурой пейзажа, заслонила собой все, что до этого мгновения услаждало мой благодушный взор.
Шляпа бесцеремонно воцарилась над Клопайнерзее, спрятав за своими соломенными полями и середину озера, и часть противоположного берега, оставив открытыми лишь далекие синие горы, которые как бы нависали над овалом тульи, став жалкой декорацией к величественному головному убору.
Перо оказалось на одной линии с вершиной самой высокой горы, оно походило на вымпел, который на покоренном пике устанавливают альпинисты как символ бессмысленного геройства и романтической глупости.
– Ненавижу нынешнее поколение, – повторил Карл и любовно огладил округлившийся живот. За несколько последних дней он заметно прибавил в весе.
– По-твоему, мы были лучше? – спросил я.
– Лучше, хуже, какое это имеет значение? Ненавижу – и все тут.
– И, все-таки, за что?
Карл задумался.
– Они другие…
Я засмеялся.
– И, слава Богу! Хорошо, что они на нас не похожи: два одинаковых гнилых поколения кряду, одно за другим, этого, брат, никакая цивилизация не выдержит.
– Они еще гнилее нас…
– Это невозможно.
– Возможно, брат, возможно, сейчас все возможно. Мне говорят, что, мол, надо смириться, такие нынче настали времена.
– Какие?
– Черт его знает, какие… Вокруг развелось слишком много всяких технических штучек…
– Компьютеры, Интернет, мобильники…
– Во-во! И человеческий разум не поспевает за новинками. Люди стали меньше думать, вернее, задумываться… Они вовлечены в скоростную игру со временем, надо всех опередить, надо все успеть, не то тебя обскачут другие. На раздумья времени не остается, поэтому на свете осталось так мало умных людей. Их заменили современные субъекты, у которых мозги устроены не так, как у нас с тобой. Нам, чтобы докопаться да истины, надо перелопатить все укромные уголки памяти, пройти всеми тайными дорожками, тропками и извилинами. У этих все иначе: у них истина лежит на поверхности. И искать не надо, подходи и бери, всем все ясно.
– Хватит на все корки честить нашу смену! Там есть немало достойных субъектов…
– Например?.. – Карл сделал легкое движение головой, и позвонки опять хрустнули.
– Дима Билан, например, – быстро ответил я и для убедительности надул щеки. – А также Мумий Тролль, Оксана Робски и Сергей Минаев. И, конечно, Ксюша Собчак. Какие имена! Но, вообще-то, диву даешься, как это наше поколение оказалось способным к репродуцированию.
– Меня это тоже порядком удивляет… Мне казалось, что мы бесплодны. Особенно после того, как кумирами нашего поколения сами себя назначили Борис Гребенщиков и Цой. Царствие им небесное.
– К твоему сведению, Гребенщиков жив.
– Вот как?! Тем хуже для него. С него началась профанация бардовской песни. Все эти его туманности, неясности, недоговоренности… Беспомощная бесполая поэзия. Поэтика дегенерата, прикидывающегося мессией. Он собственноручно памятник воздвиг себе нерукотворный… Когда ему нечего сказать, он поет «это», «эта», «эти», «этим». У него во всех песнях ключевое слово – «это».
Я задумался, припоминая.
– Мне кажется, ты заблуждаешься.
– Нет, не заблуждаюсь! Гребенщиков никогда ни во что не верил и сам не знал, о чем поет. Но он удачно выбрал цель и вот уже тридцать лет долбит по ней из всех орудий. Дурам, которые молились на него, казалось, что он чего-то недоговаривает, скрывая что-то таинственное, что за его «этим» и «этими» стоит что-то невероятно важное. А там ни черта нет, там – пустота. Но страстным его фанаткам – наркоманкам и психопаткам – его стишки страшно нравятся. Чтобы сгустить свой образ, образ печального и мудрого пророка, он для блезира ударился в буддизм… Словом, свинья он преизрядная. Играет, каналья, на нежных чувствах доверчивых лопухов. Ненавижу прохиндеев, паразитирующих на ниве искусства! А искусство – это та же религия, только место Бога там занимает Художник. Повторяю, я Борю ненавижу. Но главное – ненавижу тех, кто идет всем нам на смену! – раздраженно твердил Карл, потряхивая головой. Лицо его пылало гневом, брови грозно нависли над переносицей. – А они идут, эти неизбежные сменщики, эти сосунки, эти молодые сосущие силы, и, похоже, их не остановить. Вот что плохо-то… – Карл тяжко вздохнул.
Я знаю, в чем причина его ненависти к «молодым сосущим» силам.
Когда Карл был еще студентом консерватории, он увлекся сразу двумя своими сокурсницами.
Ему казалось, признавался потом Карл, что он любил девушек примерно одинаково, и ни с одной из них ему не хотелось расставаться.
Скорее всего, он не врал: в молодости его изнутри распирала настолько мощная сексуальная сила, что одной женщины ему было мало.
Неосмотрительному и любвеобильному студенту предстоял нелегкий выбор. Решив положиться на случай, Карл бросил жребий.
В результате одна из пассий стала его женой, вторая – официальной любовницей. Обе женщины – зачтем это хитроумному селадону в актив – долгие годы мирились со своим положением.
Сокурсницы родили ему двух дочерей. Причем девочки появились на свет почти одновременно, чуть ли не в один день.
Внимания, как легитимной дочери, так и побочной, Карл, вечно неудовлетворенный, озабоченный своими «творческими» неудачами и по этой причине неделями не вылезавший из пьянок, практически не уделял.
Следы одной дочери затерялись на широких просторах Зауралья, куда она в свои неполные семнадцать сбежала с юным лейтенантом, который вряд ли когда-нибудь станет генералом: мечтательный офицер грезил о славе Андрея Вознесенского и не умел материться.
Эту дочь Карл терпеть не мог и, похоже, навсегда вычеркнул из своей жизни: я знал, что в его сердце до сих пор тлели угольки ревности и подозрений, уж больно дочка походила лицом и статью на так называемого «друга семьи», некоего красавчика, прятавшего свое коварство под сладкогласным именем Юлиан.
Вторую дочку Карл ненавидел еще сильнее, потому что она мало того что была похожа на него как две капли воды, но и внутренне была вылитый Карл.
Она никуда не затерялась и, даже более того, была у всех на виду, беспрестанно снимаясь в телесериалах, специализируясь на амплуа искательниц любовных приключений.
«Этой прошмандовке и играть-то ничего не надо, – цедил сквозь зубы Карл, когда речь заходила о его дочери-актрисе, – она и в жизни такая».
Какое-то время лицо Карла кривит гримаса ненависти: видимо, он вспоминает своих дочерей. Но долго оставаться мизантропом этот эгоист не может.
– Господи, хорошо-то как! – шепчет он. Лицо его разглаживается, приобретая самоварный оттенок, который очень ему идет.
Карл не менее минуты, слегка прищурившись и редко мигая, созерцает крохотные отели и пансионы, тонущие в густой темной зелени, за которыми, словно нарисованные на серебристо-голубом полотнище неба, высятся горы с окультуренными склонами – игрушечные горы австрийских Альп.
Насладившись рекламными красотами, Карл радостно вздохнул, потянулся за солнечными очками и в этот момент увидел полную пожилую немку, с которой при встрече всегда галантно раскланивался.
Карл и на этот раз был необыкновенно учтив: он слегка привстал и рукой грациозно притронулся к шляпе.
И тут, пытаясь придать лицу выражение максимальной приветливости, он состроил такую зверскую физиономию, что женщина схватилась за сердце.
– Еще один такой опыт, – заметил я, когда дама, тяжело ступая, с озадаченным видом прошествовала мимо, – и старухе конец: она от удивления лопнет. Она лопнет, а тебя привлекут к ответственности за членовредительство. Не смотри на нее так…
– А как я должен был на нее смотреть?..
– Ты должен был смотреть на нее доброжелательно.
– Я и смотрел доброжелательно.
– Если бы…
– Оставь меня в покое! Буду я тебе доброжелательно смотреть на какую-то старую кикимору. Мне на себя-то смотреть тошно…
– Не ври. Ты себя обожаешь. А на нее не смотри, обойдись как-нибудь без этого.
– На кого мне тогда прикажешь смотреть?
– Смотри на меня.
– Я и смотрю.
– И?..
– Получаю ни с чем не сравнимое удовольствие.
– Вот так-то лучше. Давно хотел тебя спросить…
– Если давно, то лучше не спрашивай, знаю я твои вопросы.
– Что это за имя у тебя такое, Карл? За что и в честь кого тебя так обозвали?
– А почему ты спрашиваешь?
– Из чистого любопытства.
– Имя как имя… – Карл зевнул. – Если помнишь, Маркса, так звали… Да и Либкнехта тоже… еще Линнея… а также целой своры королей от Карла Великого до Карла Безумного, который, помнится, дрался с собаками из-за мозговой косточки… И потом, не Иваном же было меня называть. Отчество у меня подгуляло, вот в чем дело, да и фамилия… Представляешь, Иван Вильгельмович Шмидт?
– Ты полагаешь, что Карл Вильгельмович лучше?
Карл опять зевнул.
– Не знаю… Мне нравится. На мой взгляд, звучит вполне пристойно, почти по-королевски. А если честно, то, по большому счету, мне наплевать. Хотя уменьшительное от Карла мне не очень-то по душе…
Я с невинным видом спросил:
– А как тебя называют влюбленные женщины? И как величала мама, когда звала обедать?
Карл ухмыльнулся.
– Мои возлюбленные обращаются ко мне по имени-отчеству. Даже в постели. А мама… Мама меня любила без памяти, но женщиной она была остроумной и злой. Она называла меня… Карликом.
Я окинул взглядом могучую фигуру своего друга.
– Можно и мне?..
– Не стоит, – отрезал Карл, – это будит во мне грустные воспоминания.
Он поерзал в кресле, выпрямился и после паузы спросил:
– Как я сегодня выгляжу?
С минуту я внимательно изучал самодовольный лик Карла.
– Ты великолепен и выглядишь, как разжиревший сакс, много лет проживший в Париже. Такой ответ тебя устраивает?
Карл ответил не сразу.
– Как тебе известно, я действительно некоторое время обретался во Франции, – сказал он, и легкая тень легла на его лицо.
– А кто ты по национальности?
– Ты забыл про «давно хотел тебя спросить».
– Давно хотел тебя спросить, кто ты по национальности.
– Из тевтонов мы. Или из вестготов. А может, из лангобардов.
– А кем ты себя ощущаешь?
Карл на секунду задумался и, горделиво выкатив грудь, заявил:
– Я гражданин мира!
– Ясно: безродный космополит… И все-таки, кто ты?
Карл опять задумался.
– По всей видимости, русский.
– Ты в этом уверен?
– Знавал я одного славного парня, у которого папа был еврей, а мама – француженка. То есть в его жилах не было ни капли русской крови. Так вот, в паспорте этого субъекта в графе национальность было написано «русский». Он так решил. И это его неотъемлемое право, – Карл помолчал. – А по поводу моей национальности… Ну, посуди сам, коли у меня папаша, хоть и Шмидт, но по паспорту русский, да и по маминой линии точно такая же история… Да будет тебе известно, что ее остзейские предки обрусели, перекрасившись в бело-сине-красные цвета, чуть ли не при Екатерине Второй. Одним словом, деваться-то мне было некуда, и я автоматически стал русским. Таким образом, как ни верти, я русский. Хотя имею германских прародителей и мог бы предпринять попытку пролезть в чистопородные немцы. Но что-то удерживало меня. Возможно, мысль о соборности и бескрайних просторах России…
– Этого еще не хватало!
– Да-да, о соборности! – выспренно повторил Карл. – И если бы не тетушка, я бы не торчал сейчас с тобой здесь, в глубинах провинциальной Австрии, а загорал бы в Серебряном Бору в обществе красоток из вспомогательного состава МХТ… Ах, тетушка, милая моя северогерманская тетушка! Вечная ей память… Как же вовремя она померла! Кстати, открою тебе тайну. Я далеко не всегда был русским, то есть я хочу сказать, что в детстве, когда узнал, что я по крови немец, сначала смертельно обиделся на своих родителей. Как это они посмели родить меня немцем! Мне не хотелось отличаться от других ребят. А годам к двенадцати я страшно возгордился, мне вдруг понравилось быть немцем. Хотя, чем тут гордиться… И позже, когда понял, что гордиться своей национальной принадлежностью может только чванливая посредственность, что гордиться этим постыдно, глупо и пошло, я стал русским, потому что для этого мне никому ничего не надо было доказывать. Произошло это следующим образом: в паспортном столе, при получении первого в моей жизни официального документа, всерьез удостоверяющего личность, я удостоился традиционного вопроса о национальности. И в это святое мгновение я окончательно осознал, что родился в краю церковных луковок, махорки, антоновских яблок, деревянных ложек, кваса, щей, лаптей и, вспомнив есенинское…
Карл прикрыл глаза и с чувством продекламировал:
А месяц будет плыть и плыть,
Роняя весла по озерам…
И Русь все так же будет жить
Плясать и плакать у забора.
– И, вспомнив это, – повторил Карл деловито, – я самым решительным тоном заявил паспортистке, что прошу записать меня русским. Не могу удержаться, чтобы не сказать два слова о патриотизме как таковом: русский патриот мне нравится больше любого другого, он не криклив, спокоен и тверд. И он знает своего врага в лицо…
– Тебе хорошо: тебе известно, кто ты. А вот я… Звали меня когда-то, как ты знаешь, Павлом Базилевским, а теперь я то ли Пауль Вернер, то ли Поль Вернье, то ли Пол Ковальски, то ли…
– Как же ты расточителен! Ну, скажи, разве можно так разбрасываться! – укоризненно покачал головой Карл. – Это же безнравственно! Я бы на твоем месте остановился на ком-нибудь одном.
– Увы, нельзя…
– А сейчас ты кто? Как вас теперь называть?
– Сейчас я Паоло Солари, уроженец Неаполя.
– Макаронник?! Вот это да! Но ты же ни бельмеса не знаешь по-итальянски!
– Пришлось проштудировать русско-итальянский разговорник.
Карл посмотрел на меня с уважением.
Я подмигнул ему и добавил:
– И потом, я непродолжительное время дружил с одной обворожительной итальянкой. Тесное общение, и все такое, ты понимаешь…
Карл удовлетворенно крякнул:
– Вот это совсем другое дело!
– Кстати, ее звали Аделаидой.
Я солгал. Но сделал это не без умысла: дело в том, что так звали последнюю привязанность Карла.
Но Карл и ухом не повел.
После короткой паузы он спросил:
– Думаешь, тебя все еще разыскивают?
– Как дважды два.
Карл пошевелил бровями и вернулся к вопросу о моей национальности:
– А где твои истинные родовые корни?
– Я же говорю, в Неаполе, там недалеко от церкви Сан-Джакомо дельи Спаньоли есть маленькая улочка, которая носит имя моего предка, почетного гражданина города Неаполя Витторио Солари. Он жил в 18 веке и был глубоко верующим христианином, за что паства семь раз подряд избирала его церковным старостой. Так вот, этот Витторио Солари прославился тем, что даже в Великий пост, то есть в Пепельную среду и Страстную пятницу, обжирался свининой по-неаполитански и до блевотины накачивался разливным фалернским…
– Ну и балаболка же ты! Как ты сам не устанешь от своей болтовни!
– Клянусь девой Марией… – я молитвенно прижал руки к груди.
– Со мной ты бы мог быть пооткровенней.
– Хорошо, буду предельно откровенен, но, прошу заметить, делаю это под давлением. Итак, я человек без национальности: без роду, без племени, одним словом. Хотя отец когда-то мне рассказывал, что его польский предок…
Карл возмущенно запыхтел:
– С тобой совершенно невозможно разговаривать! Опять какой-то засранный предок!
Я повысил голос:
– Предок моего отца, некто Збигнев Базилевский, мелкий лавочник и подданный Его Императорского Величества Самодержца Всероссийского, Царя Астраханского, Царя Польского и прочая и прочая, как-то в Варшаве, переползая из одного кабака в другой, спьяну заблудился. Полз, полз, значит, он, потом уснул мертвецким сном, а когда очухался, то оказалось, что он уже не в Варшаве, а в Москве, в особняке золотопромышленника Базилевского на Воздвиженке, за Арбатской площадью… Так с тех пор и повелось…
– Переползать из кабака в кабак?
– Нет, жить в особняках.
Карл недоверчиво покачал головой.
Я и сам не знал, какие черти занесли моего прадеда из чистенькой спокойной Варшавы в сумасшедшую Москву: это составляло страшную тайну нескольких поколений семьи Базилевских.
– Тем не менее, я говорю сущую правду. Когда в восемнадцатом году по Совдепии прокатилась первая волна «уплотнений», то бывшему владельцу особняка на Воздвиженке пришлось потесниться и из роскошных, почти дворцовых, покоев перебраться в каморку слуги под лестницей. Потом в этой каморке жили его сын, потом внуки, один из которых – мой отец, а потом и я…
Если быть честным до конца, то надо признать, что каморка вообще-то была довольно поместительна и состояла из столовой, спальни, кабинета, ванной комнаты и кухоньки. Видно, прежний владелец особняка хорошо заботился о своих слугах. Или был провиденциально предусмотрителен.
Титанические усилия отца вернуть себе особняк – как прямому и законному наследнику – натолкнулись на глухую стену, сооруженную чиновниками из столичной мэрии.
Борьба с властями длилась недолго и закончилась полной и безоговорочной победой чиновничества над справедливостью: особняк после реконструкции отошел к некоей таинственной организации, возглавляемой смуглым джентльменом с кавалерийскими усами.
К слову сказать, реконструкция была противоправной: еще в конце семидесятых особняк был признан памятником русского модерна и охранялся законом.
Но, несмотря на это, в один не совсем прекрасный день во внутренний дворик особняка был высажен десант каменщиков, маляров, сантехников и прочих строительных рабочих в количестве, необходимом для того, чтобы уже через полгода здание, заиграв веселенькими красками, изменилось до неузнаваемости. На мой взгляд, оно стало походить на праздничный торт или огромный тульский пряник.
Впрочем, власти были по-своему гуманны: выиграв битву, они проявили великодушие и насильственная реконструкция не коснулась каморки.
После смерти отца (лучше сказать, не смерти, а исчезновения, – но об этом позже) в каморке, а, правильнее, малогабаритной трехкомнатной квартире, жил я, жил один и жил в свое удовольствие. Жил, пока… Впрочем, об этом тоже позже.
– Ты никогда не говорил, что этот особняк… – начал Карл. – Словом, я не знал, что он принадлежал твоему пращуру.
– А-а, да что тут говорить… – я махнул рукой.
– А мать?..
– Что – мать?
– Мать, говорю, кто по национальности?
– А мать я не успел спросить, она умерла, когда мне не было и полутора лет. Когда ходишь под себя и знаешь только два слова – «дай» и «нет», не до расспросов тут… Да и какое имеет значение, кто ты? Так ли важно, кем помрешь: немцем, французом или эфиопом… Вот и ты говоришь, что все мы граждане мира.
– Про «мы» я не сказал ни слова. Я намекал, что если кто и может быть гражданином мира, так это только я, а что же до остальных…
– А остальные – это кто, я?.. Коли так, то повторяю, не все ли равно, кем помирать?
– Не скажи. Например, жить эфиопом – это еще куда ни шло, а вот помирать… Тем более что смерть бродит не за этими, слишком красивыми, горами, а где-то рядом…
– Типун тебе на язык! Тебе всего-то сорок.
– Да, мне сорок. Вернее, тридцать девять. Как и тебе… И что? Даже если я проскриплю еще столько же, то следующие тридцать девять промчатся ничуть не медленнее, чем те, что уже промчались. Думаю, даже быстрее… Общеизвестно, что вторая часть жизни, если тебе посчастливится ее заполучить, – это ускоренный вариант первой…
– Да, жизнь, действительно, как-то уж слишком быстро летит… и вот уж клонятся к закату дни жизни моей окаянной. По правде сказать, я и не ожидал, что все так быстро промелькнет.
– Будто я ожидал… Жили-жили, а зачем… Так и не поняли, в чем смысл существования.
Некоторое время мы задумчиво молчим и озираем окрестности.
На коленях Карла лежит книга. Он шелестит страницами. Одним глазом подглядывая в книгу, он вытягивает руку над головой и, придав гласу умеренной громкости, возглашает:
– Поэтическое восприятие жизни – величайший дар, доставшийся нам от поры детства, – Карл счастливо вздыхает. – Если человек не растеряет этот дар на протяжении долгих хмельных лет, то он поэт или композитор… А теперь к вопросу о том, в чем смысл существования. Господь создал человека личностью: так Он задумал. Чтобы это понять, надо хорошенько поработать мозгами. Я это понял, и мне сразу стало легче жить. М-да, личность, – Карл задумался, – личность только тогда личность, когда она имеет абсолютную, ничем не сдерживаемую свободу выбора. Я к такому выводу пришел после долгих размышлений. И, кстати, независимо от святой церкви. Которая учит нас, что свобода выбора – в вере в Бога…
Я даю ему выговориться и как бы невзначай роняю:
– Карлуша, друг любезный, у тебя послезавтра день рождения. Как-никак юбилей: сорок лет.
Карл делает вид, что не слышит меня. Я продолжаю:
– Надеюсь, ты не зажилил его и нас ожидает банкетный зал на три тысячи кувертов? Форма одежды парадная? Дамы должны явиться в вечерних платьях? А джентльмены – в белых смокингах или в мундирах и при орденах? Посоветуй, что мне надеть, чтобы выглядеть поприличней и не выделяться? Может, облечься в парадные кожаные шорты, какие носят фальшивые альпийские стрелки? Или лучше – в клетчатую шотландскую юбку из австралийской шерсти? Мадонне и Клуни приглашения отправлены? За принцем Савойским послан мусоровоз? Или он прибудет в карете скорой помощи? Кстати, как будет по-французски «званый вечер»? Кажется, «суаре»?
Карл презрительно посмотрел на меня и хмыкнул.
– Твоя высокопарная тирада требует шлифовки, – говорит он, пытаясь придать голосу сострадательные нотки. – Впрочем, вру, она не поддается шлифовке. Ты теряешь форму, мой друг. Ты начинаешь говорить глупости. Твои попытки казаться остроумным – нелепы. Хорошо, что тебя никто не слышит. Я знаю, что с тобой происходит. Это все от безделья. Тебе нужна смена обстановки и полная замена действующих лиц. Ты должен постоянно двигаться, перемещаться в пространстве, разве ты забыл об этом? Ты засиделся. «В добрый путь, господин Лермонтов», – сказал Николай I, прочитав «Героя нашего времени». Ему не понравилась книга Михаила Юрьевича. По мнению Николая, Лермонтов плохо знал русский народ. Все персонажи у него ходульные, нетипичные, нежизненные. Особенно царю не понравился Печорин. Удался только один Максим Максимович, который, как ты помнишь, к царю относился как к отцу родному. И император отправил автора в ссылку. Чтобы тот, окунувшись в гущу народной жизни, поднабрался знаний. Если ты, Паша, хочешь написать правдивую книгу, которая проняла бы читателя до печенок, тебе необходимо повариться в среде простых людей, как-то: финансовых магнатов, президентов корпораций, директоров банков, знаменитых киноактрис, телевизионных продюсеров и прочей публичной сволочи. Что касается юбилея, то я подумаю. Полагаю, что о дне и часе торжества ты будешь извещен своевременно… или несколько позже.