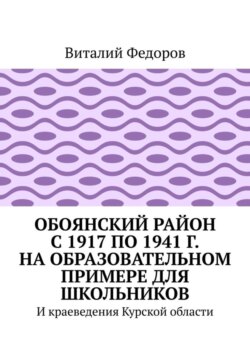Читать книгу Обоянский район с 1917 по 1941 г. на образовательном примере для школьников. И краеведения Курской области - Виталий Федоров - Страница 5
§1 Сущность понятия «краеведение»
подходы и понятия
ОглавлениеИсследовательская практика последнего десятилетия наглядно показывает, что принципиальной основой в подходах к пониманию и применению различных лексических вариаций, «покрывающих» многообразие проявлений «региональной составляющей» в исторических исследованиях, должно выступать представление о содержании двух коренных понятий – историческое краеведение и региональная истории.
Для научного сообщества историков сегодня характерно оперирование множеством понятий часто без осмысленного выбора конкретной терминологии, с одной стороны, а с другой – попытка самоидентифицировать характер своей исследовательской деятельности через приверженность к определенным лексическим формам. Наименование той или иной научной отрасли – среди ведущих параметров ее самоидентификации18.
Относительно производным от него выступает название специальности, кафедры, учебника и проч. Процесс самоидентификации регионалистов-краеведов через поиск понятий, обозначающих содержание и организационные формы их деятельности, идет по нескольким направлениям.
Заимствование новых понятий из зарубежной историографии, отражающих специфику западных научных традиций, привело, с одной стороны, к недифференцированной терминологической практике в широких кругах исследователей прежде всего своего края, к использованию понятий краеведение и регионоведение как синонимов, а с другой – к рождению таких своеобразных лексических новаций, как региональное краеведение. В это понятие включают разнообразные по структуре, научному уровню, кругу авторов работы, посвященные различным проблемам изучения региона-края. Исходным концептом этой позиции выступает положение о том, что в научно-исследовательской практике разведение «по сортам» краеведческих и регионоведческих трудов «показывает искусственность подобной градации для определения качественных признаков»19.
Второе направление в поисках терминологической самоидентификации связано с подходом, ориентированным на дифференциацию довольно уже широкого репертуара понятий, объединенных региональным ракурсом изучения конкретных социокультурных объектов. Исходным концептом в данном случае выступает положение о том, что усложнение структуры накопленных до сегодняшнего дня огромного корпуса знаний о крае, определившиеся принципиальные различия в их функциональной направленности, организации исследований, профессионализме участников и проч. требуют введения различных таксономических единиц, учитывающих нюансы в едином процессе познания конкретной территории.
Понятия региональная история и историческое краеведение различают многие исследователи. Под регионологией понимают комплекс более широких и менее конкретизированных знаний, чем краеведение, включающих современное состояние региона и сферу политологии. Это – междисциплинарная научная и просветительская деятельность, утвердившаяся на стыке наук гуманитарного и иного профиля. Проблемное поле регионологии (регионоведения) смыкается с интересами исторической науки, теории и истории культуры, культурологии, ряда социальных наук. Региональная история – это не только история отдельных регионов, но и история взаимоотношений со столицами и другими регионами, организация территориальной структуры государства и управления ею. Регионология и региональная история «поставляют» методологию и методику исследований региональной проблематики, а также приемы распространения этих научных навыков в широкой общественной среде (в том числе и в программах школьного обучения)20. Краеведение – это наука, изучающая развитие и современное состояние конкретных региональных сообществ и территорий, но и одновременно – научно-популяризаторская и просветительская работа по определенной тематике: о прошлом и настоящем конкретного края – региона— «малой родины» и его памятников. В этой работе участвуют специалисты и любители (некоторые из них становятся большими знатоками «края» и литературы об этом «крае»), в нее втягивается школьная молодежь. Таким образом, в краеведческой деятельности объединяются по интересам люди разного возраста, разного социокультурного статуса, разного уровня специальной (научной) подготовки. «Занятия краеведением по зову души – всегда краелюбие», – считает С.О.Шмидт, поэтому степень развития краеведения – один из показателей уровня культуры края, микроклимата его общественной жизни, а знакомство с региональным самосознанием и региональной историей существенно для понимания менталитета страны, особенно отличающейся своеобразием различных местностей21.
Представители третьего направления рассматривают историческое краеведение как особую разновидность исторической регионалистики. Историко-региональные исследования составляют «сердцевину» исторического краеведения, его научную основу. Историческое краеведение выступает как интегральное научное направление, специфика которого заключается в том, что оно сближает системы природоведческого и социогуманитарного знания, дает возможность конкретизировать и персонифицировать историко-культурный процесс, разрушает барьеры между профессиональной наукой и историками-любителями, расширяет и организует круг людей, заинтересованных в изучении своего края, способствуя тем самым воспитанию национального самосознания и патриотизма. При этом, соотношение исторического краеведения и исторической регионалистики образно представляется в виде двух пересекающихся окружностей. Область краеведения, не совпадающая с регионалистикой, включает всю сферу общественного и учебного краеведения, а область исторической регионалистики, которая выходит за границы краеведения, включает проблемы историко-экономических исследований, выработку критериев экономического и политического районирования, разработку научных основ региональной политики22.
Исходным концептом позиции представителей четвертого направления является контекстное восприятие региональной составляющей исторических исследований. Регионалистика и краеведение в данном случае определяются в качестве элемента, включенного одновременно в две системы (или как «две стороны одной медали»): «То, что в контексте развития „большой исторической науки“ рассматривается как региональное исследование… может приобрести значение краеведческого знания, если окажется востребованным и освоенным в системе знания о том или ином регионе или городе»23.
Таким образом, краеведение как система знаний о крае пополняется за счет общеисторических работ точно так же, как факты и знания, добытые в рамках краеведческих исследований, могут войти в систему знаний «большой науки», если они будут востребованы в ее границах. Многие ученые придерживаются мнения о том, что приоритеты современных исторических исследований связаны в первую очередь с изучением не столько общего и типового, сколько особенного и индивидуального. В связи с этим регионалистика выдвигается в качестве важнейшего составляющего компонента развития современной историографической ситуации: т.е. именно с региональными исследованиями связывается прорыв в изучении истории вообще. Однако для того, чтобы добытые краеведами знания вошли в систему знаний большой науки, необходимо, прежде всего, повышение профессионального уровня исследований, которые проводятся в регионах. Они должны быть значимы не только для системы знаний о крае, но и включаться в систему регионалистики и систему знаний о стране в целом24. Таким образом, взаимосвязь локального, регионального и общего предполагает многоуровневую структуру краеведческого знания.
Эволюция в понимании содержания понятий краеведение и региональная история прослеживается уже на уровне социальной институционализации. Так, в Украине в рамках советской эпохи академическими центрами, координировавшими историко-краеведческие исследования, являлись отдел историко-краеведческих исследований Института истории УССР и проблемный Научный совет. В 1990-е гг. в Институте истории Украины НАНУ наряду с отделом историко-краеведческих исследований начал действовать отдел региональных проблем истории Украины, возглавляемый академиком НАНУ П. Т. Тронько, являющимся одновременно председателем Всеукраинского союза краеведов. В Российском государственном гуманитарном университете (если рассматривать пример вузовского уровня) действует кафедра региональной истории и краеведения, на которой читаются курсы – «Региональная история», «Историческое краеведение», «Церковное краеведение Москвы», «История москвоведения», «Москвоведение» и др.
Если принимать во внимание действительную неразделимость принципиальной ориентации региональной истории и исторического краеведения на изучение истории локальных объектов в рамках конкретно-ограниченной территории, то изложенный выше дискурс и реальная практика его институционального воплощения вполне оправданы. Однако историко-краеведческим исследованиям в том классическом виде, в каком они сложились в рамках украинской (и российской) культурной традиции, всегда были присущи: а) интерес к истории именно своего края и б) участие непрофессионалов: историю края писали не только специалисты-историки и не только представители т.н. «ученого цеха». Академик Д. С. Лихачев называл краеведение «самым массовым видом науки», т.к. в ней нет «двух уровней»: для ученых-специалистов – одного и для «широкой публики» – другого25. Среди особенностей историко-краеведческих исследований обычно выделяют: специфичность форм организации и выявления фактического материала; конкретизацию и детализацию описания; возможность изучения жизни современного общества непосредственно «по следам» событий; более тесную связь с другими науками (исторической географией, исторической топографией, демографией, топонимикой и др.); специфичность источниковой базы, поскольку краеведу в большей степени доступен широкий круг местных источников не только письменных, но и устных, этнографических, поведенческих26.
Следует учитывать еще одну сторону проблемы: генезис и национальную специфику культурно-исторических лексических норм. Слова с «территориальным» значением обычно разделяют на две группы. Во-первых, для обозначения определенных территорий. Это т. н. таксономические единицы территориально-административного членения (страна, государство, республика, область, край, штат, район, губерния, уезд, департамент, земля и т.п.) и территориально-географического характера (равнина, долина, междуречье, побережье и т.п.). Во – вторых, для обозначения неопределенных территорий. В этом случае понятия, выраженные в аналогичной терминологии, в каждом конкретном случае наполняются своим содержанием. Например, Причерноморский край – как территория со спецификой географических характеристик и «край непуганых птиц» – как литературно-поэтическая форма27.
Наиболее четко и понятийно однозначно вторая группа слов может быть представлена термином регион (от лат. regionalis – областной), под которым «подразумевают обычно часть территории, отличающуюся от других совокупностью относительно устойчивых особенностей – географических, социоэкономических, исторических (как историко-культурных, так и историко-политических). Генетически одни из слов второй группы представляют собой заимствования (регион, район), другие возникли на славянской почве (область, край). Однако семантическое развитие даже в истории одного слова может протекать в прямо противоположных направлениях. Так, слово область первоначально имело значение территории, находящейся под единой властью (т.е. «область» – калька греческого слова «епархия»), но в дальнейшем приобрело и неопределенно-территориальное значение.
Слово край представлено во всех славянских языках и связано с чередованием гласных в слове кроить. Первоначальное (негеографическое) значение – предельная линия, предельная часть чего-либо – сохранилось в русском языке в качестве первого словарного значения слова край. В украинском языке слово край – конечная часть поверхности, конец, окраина, межа, сторона и др. В современном болгарском языке край – конец. Это дало основание для определения словом край – окраинных территорий: Украина, Привислинский край (как территория, включавшая в себя несколько губерний в Российской империи ХУШ-Х1Х вв.), Новороссийский край и проч. В советское время (с 1924 г.) этим словом обозначали административно-территориальную единицу субреспубликанского уровня, включающую в себя национальные автономии. Если в неопределенно-территориальном значении слово край, как мы видим, связывалось с окраиной, периферией, то в поэзии сентиментализма и романтизма оно утрачивает этот аспект семантики. Здесь он приобретает романтический нюанс, реализуемый обычно в противопоставлении: родной (отчий, наш, свой) край / чужой (далекий) край. Это противопоставление демонстрирует восприятие края с позиций его обитателей: это не просто территория, но такая, которая осознает свою собственную специфику. Это – именно родной край.
Термин «краеведение» в российской официальной науке XIX в. действительно еще не употреблялся. Существовавшие в XIX – начале XX вв. в России такие понятия, как отчизноведение, а позже – родиноведение, ставшие предшественниками понятия краеведения, отражали и их связь с общим процессом формирования национального самосознания, и этапы его развития. Появившееся в начале XX в. новое слово – «краеведение» – несло на себе отпечаток амбивалентности: оно означало как изучение данного края, так и страны в целом: Отчизна, Родина – мой родной край. Только в 1920-е гг. термин «краеведение» окончательно сменил «родиноведение» (возможно, здесь сыграл свою роль и фактор отказа от традиций «буржуазной науки» дореволюционной России) и утвердился для обозначения общественного движения и формирующейся дисциплины. Несмотря на то, что понятие краеведение среди ученых долгое время трактовалось по-разному, объект краеведения – край, свой край, малая родина – постепенно определялся все более отчетливо. К середине 1930-х гг. слово «краеведение» объясняли следующим образом: «Изучение какого-нибудь края…, отдельных местностей, районов со стороны их природы, истории, экономики, быта и т.п., производимое преимущественно местными силами»28.
Таким образом, от изучения большой Родины к изучению малой Родины, от изучения Отечества в целом к изучению его же, но через познание своей малой Родины – в этом состояла основная тенденция в эволюции понятия краеведение, которое отражало объективный процесс исторического самопознания в широких кругах представителей разных слоев населения, который выступал в качестве важнейшей составляющей процесса формирования национального самосознания. Если учитывать тот факт, что 1920-е гг. стали периодом национального самоопределения (в условиях не сложившейся еще жесткой конструкции «семьи народов») для многих этнических общностей огромного союзного государства краеведение стало формой местного самосознания, которое в контексте общесоюзного пространства трансформировалось в национальное самосознание.
Впрочем, краеведы-любители идут вслед за профессиональной наукой: многие из ее представителей в условиях расплывшихся границ методологического пространства, перехода от мононаучной парадигмы к многообразию выбора встали на позитивистски-эмпирические позиции. На волне нового размаха краеведческих изысканий, к которым приобщились в силу различного характера мотиваций многие непрофессионалы, и появления широких возможностей для публикации краеведческой литературы, неоднозначной по своему содержанию и научному уровню, специалисты в области историко-региональных исследований выдвигают требование повышения качества подобных исследований, их профессиональной планки. Решение этих проблем некоторые представители «ученого цеха» видят в том, чтобы центрами научного краеведения в регионах сделать высшие учебные заведения21.
В то же время, складывается впечатление, что с историческим краеведением сейчас происходит нечто аналогичное тому, что происходило (и, пожалуй, происходит постоянно) с самой исторической наукой. Закономерные периоды кризисов, вызванные разными факторами (в том числе и фактором «роста» науки), приводят к перманентным сомнениям в ее научном статусе и заставляют вновь и вновь ставить вопрос о создании т.н. новой научной истории29.
Поскольку тотальность в реальной практике научного анализа исторического прошлого может быть осуществлена лишь в рамках изучения предельно ограниченного объекта (конкретная деревня, город, монастырь и проч.), постольку именно содержание локально-исторических исследований дает возможность реализации идеала тотальной истории, т.е. всестороннего, тотального изучения какого-нибудь локального объекта30
18
Джахая Л. Г. Место научной теории в дисциплинарных структурах // Наука и наукознавство. – 1994. – №1—2. – С.21.
19
Корзун В. П., Рыженко В. Н. Регионоведческое направление в деятельности исторических кафедр провинциальных университетов России // Методология региональных исторических исследований. Материалы международного семинара. – СПб, 2000. С. 36—37.
20
Методика историко-краеведческой работы в школе. – М.: Просвещение, 1982. С. 49.
21
Шмидт С. О. Краеведение и документальные памятники. – Тверь, 1992. С. 215.
22
Тронько П. Т. Историческое краеведение: шаг в новое тысячелетие. – Киев, 2000. С. 25.
23
Маркова Л. А. Наука. История и историография ХIХ-ХХ вв. – М., 1987. С. 280.
24
Лихачев Д. С. Краеведение как наука и как деятельность // Историческое краеведение в СССР: вопросы теории и практики. Сборник научных статей. – Киев, 1991. С. 3,4.
25
Лихачев Д. С. Краеведение как наука и как деятельность // Историческое краеведение в СССР: вопросы теории и практики. Сборник научных статей. – Киев, 1991. – С. 3,4.
26
Рыбаков М. А. О некоторых вопросах исторического краеведения // История СССР. – 1980. – №4. – С.217.
27
Тронько П. Т. Вступительное слово // Непомнящий А. А. Музейное дело в Крыму и его старатели (Х1Х – начало ХХ века). Биобиблиограф. исследование. – Симферополь, 2000. С.3.
28
Маркова Л. А. Наука. История и историография ХIХ-ХХ вв. – М., 1987. С.7—8.
29
Горин Д. Г. К вопросу о «профессорской культуре» России ХIХ – начала ХХ в. // Отечественная культура и историческая наука ХYIII-ХХ веков. Сб. ст. – Брянск, 1996. С.21.
30
Шмидт С. О. Краеведение и документальные памятники. – Тверь, 1992. С. 215.