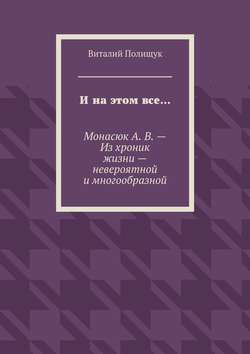Читать книгу И на этом все… Монасюк А. В. – Из хроник жизни – невероятной и многообразной - Виталий Полищук - Страница 11
Часть 1-я. Школьные годы чудесные…
Глава 8-я. Наш досуг
ОглавлениеЕсли говорить о нашей повседневной жизни, то начинать, конечно, нужно с учебы.
В 1965—66-х годах в школах был лишь один выходной день – воскресенье. Так что отдыхали мы один раз в неделю, и так – с 1 сентября и до 30 мая. Потом была летняя практика – это две недели работы в школьном саду либо на полях нашего колхоза «Светлый путь».
Но зато занимались мы в первую смену, за исключением начальной школы и 4—6-х классов. И как я уже упоминал, начинали мы занятия в 8 часов утра, и заканчивали в половине второго.
Но это – старшие классы. А все остальные после занятий попадали домой гораздо раньше.
Я имею в виду, естественно, первую смену занятий.
В школе у нас не было изобилия кружков, но их было достаточно, чтобы желающие могли развивать свои творческие способности.
А вот спортивных секций было множество. И в теплое время наш школьный стадион, (а в холодное – спортивный зал) были заполнены детьми и молодежью.
Но не нужно думать, что мы только учились. Наш досуг – это время, когда мы были предоставлены сами себе, и могли заниматься всем, чем угодно, был может быть и не слишком ярким, но нам он – нравился!
Мы много читали, вечерами – ходили в кинотеатр. Тогда каждые два дня шел новый кинофильм, и я не помню, чтобы это правило хоть бы раз нарушалось. Конечно, в теплое время мы частенько предпочитали возможности потанцевать на танцплощадке – посещению кинотеатра, но вот зимой – зимой мы дружно ходили в кино на все новые кинофильмы.
В нашем кинотеатре «Победа» сеансы начинались в 19 часов и в 21 час. И, естественно, в школе нам запрещали посещать последний сеанс, и так же естественно, что мы старались пойти на сеанс именно девятичасовый.
Ну, если нас замечали учителя – на следующий день нам «мылили холку». Но это – до последнего года обучения, а в нынешнем году на посещения кинотеатра в неположенное время все уже смотрели сквозь пальцы. Нам ведь всем исполнялось в этом году по 18 лет.
В связи с кино и нашим кинотеатром припоминается интересная история.
В позапрошлом году райком комсомола решил создать детский кинотеатр. И в него от нашего класса попали я и Гриня Каминский.
Все было организовано по-взрослому: был директор кинотеатра, администраторы, киномеханики.
Например, Каминский освоил специальность киномеханика и работал с кинопроекторами.
А я – я вместе с другими иногда стоял на входе в кинозал. И отрывал у ребятишек корешки билетов.
Детские киносеансы были по воскресеньям, начинались в десять часов утра, билет стоил 5 копеек.
Моя предприимчивость нет-нет, да и проскальзывала даже в те годы. И я решил организовать снабжение бесплатными билетами на детские киносеансы для нашей компании.
Сделать это оказалось весьма просто.
Мимо меня перед началом сеанса потоком шли ребятишки, суя мне в руку билеты. Вообще положено оторвать контрольный корешок и остаток билета вернуться зрителю. Но я стал иногда (чисто машинально!) некоторые билеты не рвать, а забирал их у ребятишек, сминая в ладони и кивал головой – мол, проходи! А неразорванный билет, зажатый в руке, незаметно совал в карман.
Дома я выгребал из кармана эти билеты, а далее «работали» девчонки – они расправляли билеты, разглаживали их утюгом, и вскоре наловчились придавать им вид новеньких!
И наша компания ходила в кино бесплатно!
Но такую практику мне пришлось забросить буквально через пару месяцев – наши сателлиты принялись раздавать билеты на посещение кинотеатра налево и направо – друзьям и подружкам. Когда я узнал об этом – я пришел в ужас! Афера не могла не вскрыться – я уже упоминал, что наша Боговещенка – поселок маленький, так что такие вещи быстро становятся известны всем. Причем – и нежелательным лицам – также.
Так что я билеты притаскивать домой перестал, а вскоре и из администрации детского кинотеатра ушел – надоело!
Вот так мы и жили: ходили в кино, танцевали, дружили и влюблялись…
Но хочется вспомнить и еще кое-что. Из того времени, когда нам было лет по четырнадцать-пятнадцать.
Если идти по улице Кучеровых в западном направлении за поселок (мимо общежития медучилища), вскоре за последними домами открывались степные просторы. Бескрайние, лишь кое-где виднелись небольшие березовые рощицы.
Классе в 7—8-м мы частенько с Миутом, иногда – с Гемаюном, а то и с нашими девчонками уезжали сюда в степь на велосипедах.
Мы брали с собой картофель, и доезжая до края горчины, собирали лепешки овечьих кизяков и разжигали костер. Кизяки давали сильный жар, но быстро прогорали, так что нам требовалось около часа, чтобы набралось достаточно «углей» для того, чтобы спечь картошку.
Вот сейчас вспомнилось, что мы могли часами сидеть на краю горчины и смотреть вдаль. Горчина – это разновидность солонцовой трясины. Солонцы – засоленная почва, на которой не росло ничего, кроме редкой и жесткой травы. Такая почва представляет из себя серую поверхность с выступившими разводами белесых солей. А сама горчина была волнистой, коричневого цвета, и на всем ее протяжении не росло ни травинки.
Вот эта обширная неподвижная мертвая зыбь почему-то тянула к себе, привлекала внимание, и мы частенько, уставившись вдаль и замерев так, забывали о картошке и она сгорала.
Почему нам так нравилось приезжать сюда и сидеть, молча, ковыряя в зубах травинкой, смотреть на поверхность трясины, я не знаю до сих пор. Но ездить сюда мы перестали, наверное, только лишь после девятого класса.
Гораздо дольше мы посещала лесопосадки (лесополосы), расположенные к северу от поселка. Лишь только нынешним летом, перед последним учебным годом, мы стали слишком взрослыми, чтобы на велосипедах просто так, без дела, ездить за поселок в посадки километрах в двух от окраины Боговещенки.
А раньше… Раньше мы ездили сюда за ягодой.
Здесь недавно были разбиты плантации малины. Кустики ее были еще молодыми, ягод почти не было, и поэтому сбор ее не производили. Ну, а нам доставляло удовольствие ходить с кружками в руках и собирать ягодки по одной то тут, то там. Иногда удавалось набрать поллитровую банку, и тогда мама варила фруктовые вареники с малиной.
До которых был очень охочь все тот же Миута.
Но плантации стали охранять, и это совпало с временем нашего взросления.
И конечно, мы купались в нашем озере.
В Боговещенке озеро располагается прямо в центре поселка. На его берегу расположены кинотеатр «Победа», наша школа и наш районный парк.
Когда-то, в младших классах, во второй половине мая мы купались в озере прямо во время занятий.
На большой 15-минутной перемене, которая была около 11 часов, сразу после звонка мы пулей летели из школы. Уже перебегая через улицу Ленина, которая выходила прямо к озеру, мы на ходу снимали с себя рубашки, и размахивая ими над головой, на берегу быстро снимали с себя брюки и бросались в воду.
По весеннему холодная вода обжигала тело, но мы плескались, орали, ныряли, и уже через пять минут одевались на берегу.
В класс мы заскакивали сразу после звонка на урок и потом сидели на мокрых сидениях парт – выжать после купания трусы у нас возможности не было, так что до конца занятий в этот день мы ходили по школе с мокрыми задницами.
Я говорю, конечно, о мальчишках.
Ну, а на летних каникулах мы не вылезали из воды. Тогда летом было очень жарко, и спасение было одно – плескаться в воде.
Вода в озере была чистой, так как на южном берегу, где никогда не купались – земля здесь солонцовая и жесткая, была пробурена скважина, и круглые сутки в озеро текла чистая пресная вода. Так что озеро даже в жаркое лето не пересыхало.
Мы плавали на камерах от грузовых автомобилей, причем делали из них подобие резиновых лодок. Для этого накачанная воздухом камера перетягивалась посередине широкой полосой из резины. И тогда на ней можно было лежать, покачиваясь на воде, и даже вздремнуть.
Дожди летом были редки, а если и шли – то в виде гроз. И после них почва парила, высыхая, а через пару часов мы ходили прямо в поселке и срезали на обочинах улиц молоденькие шампиньоны (у нас их называют «печерицами»).
На озере мы не только купались. Мы пускали также кораблики.
Их вырезали ножом из толстых слоев коры сосны. Вырезанный корпус был легким, в нижней его части укреплялся киль из деревянной линейки, а сверху делались из палочек мачты, на которых нанизывались обычные бумажные паруса.
Мы шли с корабликами в руках на берег озера и отслеживали направление ветра. Тут важно было не ошибиться – иначе кораблик мог где-нибудь на середине озера перевернуться.
Но если нам везло и мы правильно угадывали направление легких дуновений ветерка, то запустив кораблик, мы могли встретить его через полчаса или час на противоположном берегу нашего «моря». И вот если все получалось, как надо, при приближении кораблика к берегу и владелец, и зрители начинали прыгать на берегу, размахивать руками и кричать.
Убежден, индейцы на Карибских островах встречали корабли Колумба с гораздо меньшим энтузиазмом.
Что касается меня, то я ездил почти каждое лето на море. Либо в Крым, на Черное море, либо в Азербайджан – на Каспий.
Может быть, когда-нибудь я напишу и об этом. Пока лишь скажу, что и там у меня были друзья, поэтому каждый год меня ждали и мне были рады.
Вот с тех пор я люблю ездить на поезде. И всегда пользуюсь поездами при первой возможности.
Уже с прошлого года мы почувствовали себя взрослыми. И эти детские забавы сначала отошли на второй план, а затем как-то незаметно просто сменились другими занятиями.
Мы теперь гуляли по нашему Бродвею, обязательно ходили вечерами на танцы либо в кино. А днем – перезванивались по телефону, встречались с девочками, большинство посещали стадион либо спортзал.
Молодежь поселка делилась на группы. Была, например, «золотая молодежь» – они носили демисезонные пальто цвета морской волны либо темнозеленые, весной и осенью – шляпы (невиданная вещь для нас, простых смертных!).
Насколько я знаю, группировались они вокруг работников райкома комсомола и считали себя молодежной элитой. Правда, они были постарше нас, а многие даже уже отслужили в армии.
Впрочем, их было не так уж и много – человек пять-семь.
Что касается нас, одиннадцатиклассников, то мы тоже зимой 1966 года решили «выпендриться». И побить выпендреж «золотых».
С этой целью мы попросили наших мам сшить нам галстуки-бабочки.
Мама Вовки Чернявского хорошо шила, она-то и сделала выкройки этих вроде и незатейливых, но ведь новых для нашего поселка швейных изделий!
По ее вырезанных из бумаги лекалам и другие мамы сшили «бабочки» и мы опробовали их в танцах в соседнем райцентре Патриотово – у Миуты здесь жили близкие родственники, и как-то мы втроем: Миута, я и Вовка Чернявский поехали на выходные туда в гости.
Вечером в субботу мы пошли в местный РДК на танцы.
На нас были белые рубашки, черные костюмы и бабочки, мы вели себя сдержанно и с большим достоинством. Это не могло понравиться местной молодежи, но у нас нашлись почитатели! И когда объявили последний танец, к нас подошли несколько ребят и вывели наружу черным ходом.
Они же вынесли нам пальто – дело было в начале декабря.
– Бегите! – сказали они нам. – Вас бить собираются!
Мы с хохотом унеслись от темных задворок РДК по снежным улицам к дому родственников Миуты, где переночевали, а наутро уже ехали в автобусе назад, домой.
Вот этот-то успех и привел нас к мысли, что наш последний Новый год (а мы понимали, что скорее всего – разъедемся летом, и может быть, больше не увидимся) нужно провести как-то необычно.
А домашние задания в тот год мы почти не выполняли. Точнее, выполняли, но «спустя рукава».
А если выполняли старательно – это порой принимало странную форму и приводило к весьма далеким от обычных результатам.
В конце сентября (как раз в ту пору, которую именуют «бабьим летом»), как-то в субботу мы с Миутом пошли в Пищепромкомбинат. (или в просторечии – Райпищепром).
Руководил этим перерабатывающим предприятием отец Валерки – Василий Иванович Миут.
Зачем же мы сюда шли? Ну, все дело в домашнем задании, которое нам дали на уроке обществоведения.
Мы знакомились с понятием «социальная сфера». И вот всем нам поручили задание изучить социальную сферу какого-нибудь предприятия нашего поселка. Их распределили между нами. А так как предприятий было немного, на каждое были направлены по два ученика.
Все, что нам было нужно – это придя на предприятие, в отделе кадров взять сведения о средней зарплате работников предприятия, их количестве, о возрасте работающих, количестве инвалидов. И в частности – о бывших фронтовиках, о том, какие награды они имеют, ну, и все прочее.
Мы с Валеркой все тянули с выполнением задания, но вот уже оставалось всего несколько дней, и нужно будет сдать записанные данные нашей «Орангутанге».
А поскольку учитель по обществоведению был требовательным и с ним «на дурачка» «прокатить» не могло, мы с Миутом решили пойти в Пищепром в субботу. По субботам у нас были занятия «шоферского дела» – мы изучали в специальном помещении весь день (не совсем весь, а лишь до обеда, конечно) устройство автомобиля, правила движения, и так далее.
Напоминаю – выходной день в 60-е годы был один – воскресенье, и это касалось не только учебных заведений.
Николай Иванович, наш преподаватель автодела, был человеком либеральным – это с одной стороны. А с другой – Пищепром находился прямо рядом с нами – на пересечении улиц Кучеровых и Степной, то есть – буквально в полусотне метров от наших с Миутом домов, и было просто глупо не зайти с утра на предприятие, а уж затем идти на занятия. Ну, с опоздание на час-два, так и что?
И вот мы с Валеркой зашли на завод (а фактически Пищепром – мини-завод по изготовлению вин, фруктовых соков, мороженого).
Сразу, как только мы вошли, Валерка сказал мне:
– Толя, ты иди в отдел кадров, а я пойду по цехам пройдусь.
Я и пошел. Встретиться с начальником отдела кадров, переговорить с ней, затем – с работницей, которая и дала мне все необходимые сведения из ежегодных отчетов, было делом получаса. Я все записал и пошел искать Миута. Я заглянул в один цех, другой, и нашел его в цехе готовой продукции.
Он дегустировал продукцию комбината.
– Толя, смотри! – он показал мне на свет рубинового оттенка жидкость в стакане.
– Ну, и что это? – спросил я.
– Говорят, лимонад! – ответил Миута, отхлебывая из стакана.
– Лимонад, лимонад! – подтвердила улыбчивая работница, наливая в стакан жидкость и подавая мне.
Я отхлебнул – было вкусно. И я допил содержимое стакана до конца.
– А вот – из облепихи… – подвела нас работница к следующей емкости.
И мы попробовали жидкость теперь уже золотистого цвета.
– А вот здесь у нас…
Экскурсия продолжалась.
Часом позже мы с Валеркой шли по школьному двору, покачиваясь и придерживая друг друга. Было пусто – шел урок. Нам повстречалась лишь пионервожатая Жанна – и увидев нас, шарахнулась в сторону.
Дегустирование продукции Пищепрома не прошло для нас даром – мы были пьяными в зюзю!
Зайдя в класс автодела (он помещался позади школы, в здании бывшей мастерской), мы на пороге остановились.
– А вы где были? – спросил Николай Иванович, сквозь стекла очков разглядывая наши покачивающиеся фигуры.
И наша группа в количестве 25 человек хором ответила:
– В Пищепроме!
– Садитесь! – махнул, смеясь, рукой Николай Иванович.
В момент, когда я садился на табурет, я прекрасно видел, что Чернявский вытаскивает его из-под меня, но остановить движение не мог. И сел на пол, валясь на спину и задирая ноги.
Все захохотали. А я встал, ухватил табурет за ножку и занес его над головой, с целью опустить его на голову Вовки.
Тут все повскакивали, меня скрутили, Миута, бросившегося мне на помощь – тоже, и Николай Иванович отрядил четырех человек отвести нас домой.
– Пусть проспятся! – смеясь, сказал он.
Вот такое вот изучение социальной сферы промпредприятия у нас с Миутом получилось!
Да, а оценки за это задание по обществоведению мы получили хорошие. И Жанна никому не сказала, какими она нас видела после выполнения здания.