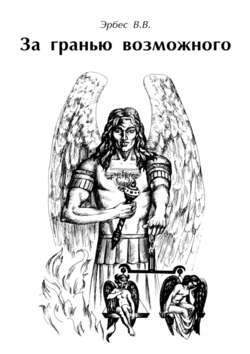Читать книгу За гранью возможного - Виталий Владимирович Эрбес - Страница 5
ЧАСТЬ I
ДЕПОРТАЦИЯ
Оглавление1941 год. Война. Кошмарное время для всех.
Мне один год. Со слов матери, нашу семью: деда Егора Фадеевича, бабушку, мать Екатерину Георгиевну, сестер Розу и Ольгу – по национальному признаку (немцы) депортировали за 24 часа из г. Краснодара, где мы родились и проживали, в Восточный Казахстан, золотодобывающий рудник Акжал, небольшое поселение в горной местности.
С собой разрешено было взять только самое необходимое: еду, одежду, документы, сумки, чемоданы – что могли унести. Пришлось оставить дом в Краснодаре, квартиру, мебель, имущество. Моего отца Владимира Андреевича сразу забрали в действующую армию, потом перевели в трудармию г. Соликамска. Нас привезли в Казахстан под конвоем в товарных вагонах.
Проживание в руднике Акжал не помню, его закрыли через год. Все депортированные, кто там жил и работал, были вынуждены под присмотром комендатуры переехать в рудник Баладжал. Все они были предоставлены сами себе, на выживание. Государственные структуры никакой помощи не оказывали. Местные жители казахской национальности, а также оседло проживающие там русские, украинцы как могли помогали едой, зимней одеждой, так как мы прибыли из теплых мест и теплой одежды не имели.
В зимнее время выпадало большое количество снега. Мороз от —25 до —35. Часто дули сильные, затяжные ветра, метели
Помню, некоторое время мы жили в съемной комнате, потом в полуземлянке. Стены из саманного блока c низким потолком. Раз в неделю сестра руками мазала пол жидкой глиной желтого цвета, которая быстро высыхала, становясь прочной и гладкой. На одежде и вещах следов пятен не оставляла. Изоляции пола от земли никакой не было – глина наносилась прямо на землю. Спали в этой комнате все вместе. На глиняный пол стелили все, что можно было постелить: одеяла, одежду, самодельные овечьи шубы местного производства. Крыша землянки плоская, на нее также каждую осень наносился слой глины, перемешанной с соломой, поэтому была прочной и не пропускала влагу.
К землянке была пристроена маленькая кухонька в виде веранды. Одна сторона состояла из деревянных рам с небольшими квадратными стеклами. В зимнее и осеннее время в ней было холодно. Ели в кухне по двое, так как больше не помещалось. Мать работала в больнице, дед и бабушка – пенсионеры. В общем, выживать было непросто.
В зимнее время многие в землянках замерзали насмерть целыми семьями, так как топить было нечем, а в горы за кустарником (карагайник – очень колючий) ослабленным женщинам и детям не дойти. Поэтому замерзали, да и желания жить в этом аду уже не оставалось – легче было умереть, замерзнуть.
Будучи еще ребенком, я ходил на лесопилку 2 раза в день, привозил мешок опилок на санках. Это была моя обязанность. Меня никто не заставлял, но я знал, что надо.
Спичек вообще не было в продаже, и мать часто просила меня утром сходить к соседям с совком, попросить не потухшие угли для разжигания печки.
Как-то в 6 часов утра я пошел за угольком. В первых двух домах огня не оказалось. Когда я зашел в третий дом, дверь была приоткрытой. Зайдя в землянку, заметил кругом иней – холод, как на улице. На полу лежала женщина и двое детей в обнимку, прикрыты по пояс тонким одеялом. Мальчик, с которым я часто играл на улице, на ощупь был холодный и твердый. Я его хотел разбудить, но потом испугался, убежал. Матери рассказал, что видел.
Потом я услышал разговор матери с соседкой, что женщина специально открыла входную дверь и все замерзли. Такие случаи были не единичны, и относились к ним спокойно, без суеты. Могли оставить без похорон на неделю и более.
Со слов матери, отца сослали в трудовую армию. Мы вели с ним переписку. Не буду пояснять о голоде, холоде, всевозможных унижениях, которые пришлось ему пережить. Этот трудовой лагерь – то же самое, что и лагерь для заключенных, разница только в том, что преступники отбывали срок по суду за совершённые преступления. А здесь содержались невинные люди, в большинстве своем трудовой костяк, интеллигенция, честные и порядочные.
Отец Владимир Андреевич до войны работал главным рыбоводом по Азовско-Краснодарскому краю. Кроме того, он окончил ростовское музыкальное училище. Играл на многих инструментах, особенно на скрипке и баяне; был всеми уважаем, «трудоголик», коммунист (50 лет стаж).
Все депортированные – немцы, чеченцы, ингуши и др. – находились под строгим контролем комендатуры. В любое время дня и ночи к ним могли прийти с проверкой: все ли дома, кто и чем занят.
Покидать границы рудника никому не разрешалось, либо разрешалось в особых случаях. Например, в зимнее время не хватало еды. Создавались бригады из числа добровольцев, которые на санных упряжках за сутки-двое добирались до озера Зайсан, где ловили рыбу. В этих экспедициях некоторые замерзали прямо в санях, когда попадали в сильную метель. Укрыться было негде – кругом степь.
Таким я помню свое раннее детство. Но все же дети склонны видеть всё в розовом цвете. Я не ощущал такого психологического и физического напряжения, как взрослые. Часто по ночам я видел свою мать, молча плачущую за швейной машинкой.
Борьба за выживание.
Коренное население, адаптированное к местным суровым условиям, принимало нас хорошо. Казахи всегда доброжелательно относились к депортированным и помогали, чем могли, хотя сами в основном были бедными. Этого я никогда не забуду.
Я помню, как были одеты пастухи: они носили чамбары – самошитые штаны из самодельной сыромятной кожи барана, мехом вовнутрь. Вместо ремня – сыромятный шнур. От них исходил специфический запах. Колени и бока чамбаров всегда блестели от жира, потому что после еды пастухи вытирали руки об колени и бока, либо об траву. Время от времени этот грязный жир соскабливали ножом. Полотенца и платки были у всех в дефиците.
Естественно, у пастухов было много вшей, блох, из-за которых распространялись инфекционные заболевания (тиф, туберкулез). Но эта примитивная, грязная одежда нисколько не умоляла их человеческие достоинства: честность, открытость, доброта, мудрость.
Помню, как моя мать принимала участие в работе группы специалистов-медиков и волонтеров, созданной для борьбы с вшами. Вшей различали на нательных и головных; это разные подгруппы: одни живут и размножаются в швах нательного белья, другие – в волосистой части головы.
В общем, все население было поражено этой напастью. Организовывалась повальная санобработка. Всех подряд стригли наголо, одежду прожаривали – дезинфицировали. Усиленная борьба с вшами продолжалась около двух лет. В конце концов они полностью исчезли.
Все депортированные из разных мест и республик попали в крайне тяжелые условия. Не было жилья, ютились в землянках. Но позже, через 4—5 лет, стали строить себе дома из самодельных саманных блоков. Для изготовления блоков брали глину, солому, всё перемешивалось с водой в густую массу. Месили ногами, иногда надевали шахтерские резиновые сапоги. Готовая масса закладывалась в специальные формы на два блока, сколоченные из досок. В этих формах масса утрамбовывалась и переносилась на ровное солнечное место, где сушилась, либо сразу клалась в один ряд на стену или фундамент. Саманная стена хорошо держала тепло и была достаточно прочной и дешевой в производстве.
Очень сложно было достать деревянный строительный материал, чтобы сделать окна, пол, перекрытие и т.д., так как в той местности деревья не росли. Бревна привозили на лесопилку для нужд шахты, и иногда по заявке можно было купить немного.
В то время корова действительно была кормилицей, поэтому мы купили корову, комолую, безрогую. Дед построил из плетня сарай, куда складывали сено и загоняли корову на ночь. Жизнь потихоньку улучшалась. В 1946 г. из трудармии (г. Соликамск) вернулся мой отец, изможденный, больной. Около года он восстанавливался. Когда ему стало получше, мать решила продать корову и строить дом. Дом получился добротный, одноэтажный. Четыре комнаты отапливала круглая печь. Казалось бы, жить да жить. Но нет, судьба еще не до конца проверила нас на выносливость. Вскоре рудник Баладжал закрыли. Как мы потом узнали, его оставили в качестве резерва на будущее. В настоящее время он вновь функционирует. Для многих и для нас в том числе это был настоящий удар.
Некоторые не перенесли этого удара. Все стали разъезжаться кто куда. Выстроенные «кровью и потом» новые дома рушили, разбирали, чтобы вывезти хотя бы стройматериал – лес. Только что построенные дома превратились в развалины, жутко было смотреть. Все приходилось начинать с нуля. Для начала надо было определиться, куда переезжать. В руднике люди жили фактически на положении ссыльных, из рудника их никуда не выпускали, поэтому ориентиров у них никаких не было. Жители были растеряны, не знали, что делать. Хотя в этот период комендантский контроль был уже снят, у людей не хватало денег, чтобы куда-нибудь уехать. И опять они оказались брошены на произвол судьбы.
Отец мой, не выдержав морально такого удара, заболел менингитом. Месяца два лежал не вставая. Лишь благодаря заботам матери он выжил. Когда он немного поправился, мы разобрали дом. У нас была мечта вернуться в Краснодар, где мы родились и когда-то жили, но, увы, она была неосуществима. Денег хватило, только чтобы добраться до ближайшего рудника «Октябрьский». На эти деньги отец нанял грузовую машину. Ее загрузили стройматериалом и необходимыми предметами обихода и переехали на рудник «Октябрьский», где сняли две комнаты в частном доме. Во дворе выгрузили стройматериалы – лес, доски, двери, окна и т. д. Часть их отец продал, а другая часть так и лежала и постепенно сгнила. Строить новый дом отец уже не хотел, и сил у него больше не было, а я еще не вырос для этого.