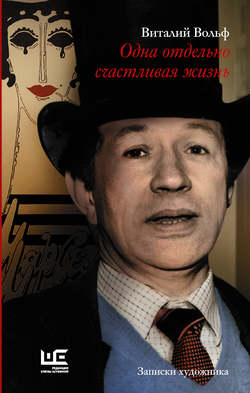Читать книгу Одна отдельно счастливая жизнь. Записки художника - Виталий Вольф - Страница 25
Детские годы
1933–1945
По соседству с крематорием
ОглавлениеВ палате нашей было спокойно. Говорили все вполголоса, и то редко. Больше молчали и целыми днями играли в карты и курили. Каждый человек жил как бы отдельной жизнью, думал о чем-то своем. Никто ко мне не приставал с вопросами, даже не интересовались, как меня зовут. “Шкет” – и всё. Место у меня было хорошее, у окна. Почувствовав общую обстановку, я старался тоже молчать, быть незаметным. В шкафу я нашел еще несколько пыльных книг. Очень обрадовался – есть занятие надолго. “Тайна профессора Бураго”, “Голова профессора Доуэля”, “Щорс”, “Декамерон”, “Краткий курс истории ВКП(б)”. Потом еще что-то читал, уже не помню что. Вокруг хоть и мороз стоял сильный, но было очень хорошо: красивый лес, за ним большое поле, деревня вдали, всё под снегом – и голубое яркое небо. Никаких заборов, иди куда хочешь. Но гуляющих было немного, и те все тетки. А мужчины сидели у своих корпусов и грелись на солнышке. Встретил ребят, таких же как я, лет по десять. Они рассказали, что рядом с ними два корпуса “доходяг” – людей, умирающих от туберкулеза. И каждый день кто-то умирает, его кладут в гроб и тут же сжигают в крематории. Или держат в морге, пока родственники не заберут. Но случается это очень редко. Ребята оказались весьма наблюдательными и вели споры, сколько было гробов вчера, сколько позавчера. Я понял, что дядя, который говорил со мной в первый день, Иван Палыч, был не совсем прав, что здесь “все только от фронта прячутся”. Умирают-то по-настоящему. Помню свои ощущения того времени. Все это “триллерное”, ужасное окружение я воспринимал как-то отдельно от себя, как будто кругом происходит какое-то кино. Ни разу не пришло в голову, что я легко мог бы оказаться на месте доходяг.
В палате постепенно ко мне привыкли. Иногда я за весь день не говорил ни слова, специально молчал. Лежал, читал и наблюдал за соседями. Это оказалось очень интересно – ведь я вырос без папы и не знал, как ведут себя взрослые мужчины. Как они разговаривают, курят, бреются и т. д.
Из разговоров я понял, что трое из нашей палаты сидели в тюрьмах. Один дядя, бородатый и седой, держал на своей тумбочке икону и про себя все время молился. Был еще Николай Николаевич, которого все звали просто Колей. Он от всех отличался. Все молчаливые, замкнутые, а Коля все время шутил. Он был сравнительно хорошо одет: белая рубашка, галстук, черный костюм; он даже подпиливал свои ногти (специальной штучкой) и потом еще полировал. Он лучше всех играл в карты, особенно в “очко” – и всегда выигрывал. Он делал зарядку, и у него были свои лыжи. У него всегда стояла американская свиная тушенка, свой чай, сахар, хлеб. Конечно, соседи мне нашептали, что он раньше был вор и карточный шулер, впоследствии оказалось, что еще и “медвежатник”. Несмотря на то что все сидели, за все месяцы жизни в этой палате я не помню ни драк, ни мордобоя. Если кто-то на кого-то начинал обижаться или кричать, их сразу гнали на улицу: “Идите на волю, там базарьте”. Помню одного молодого парня на костыле, который приходил к нам с гитарой и пел разные тюремные песни. Из своей палаты его выгоняли, он говорил, что все там доходяги и ни о чем не могут думать, кроме как о своих “кавернах” и “очагах” или у кого какой “рентген”.
Вечерами лампы горели вполнакала: ни читать, ни в карты играть. Вот сидели и слушали гитарные переборы. Приходили и соседи, палата у нас была самая большая, в середине, где стоял стол, было совсем пусто, там была как бы сцена. Наш гитарист сидел на стуле с высокой спинкой из какого-то музея. Он пел особым, блатным голосом, с надрывом, с хрипами, с каким-то упоением: то закидывая назад голову, то, наоборот, склоняясь до пола. Многие его песни я уже знал, их пели у нас в детдоме. Сейчас это называется шансон. Через какое-то время он привел из первого корпуса девушку, которая тоже была хромая, и они стали устраивать настоящие концерты.
Что меня очень удивляло во всей этой странной компании – о фронте, о войне редко вспоминали. Я ходил в контору, слушал там радио, а потом рассказывал соседям сводки. Был уже март 1944 года, везде мы наступали. Но мужики все повторяли одно: “Мы до конца войны не доживем”. Или: “Пусть их там воюют, нам-то что с этого, мы зэки”, и я стал тоже думать – доживу ли я до конца? И вообще – сколько проживу? Да и зачем?
Спасла меня весна: снег растаял, везде лужи, тепло стало, гуляли без шапок. Кто-то научил меня, как добывать березовый сок, а Коля подарил мне свой ножик. Мы с ребятами подрезали кору берез, подвязывали стаканчики, и по соломинке сок стекал быстро. Мы стали пить его с утра до вечера и сразу почувствовали себя лучше. Потом стали добывать и сосновый сок – полужидкую сладкую прослойку под корой молодых сосенок. Тоже вроде бы очень полезную. Когда совсем не осталось снега – копали картошку прошлогоднюю и пекли на костре, точно так же, как три года назад под Яхромой. Кругом стоял рев лягушек, солнце хорошо уже грело, жизнь становилась прекрасна. Мы были как маленькие Маугли – тощие, почерневшие, абсолютно безбашенные. Уходили по полям далеко и голода не замечали, привыкли. Жаль, рисовать было нечем и не на чем. Но весну я очень полюбил, ее свежий ветерок, облака, голубой струящийся, мерцающий воздух. В тот год было очень сильное половодье, все деревья стояли в воде. По полям плавали на лодках. Под натиском новых впечатлений я совсем забыл и детдом, и свой двор, и дом, и бабушку. Мне казалось, что я всегда жил здесь, среди этого половодья, березок и дубов, в царстве квакающих лягушек, грачей и сорок. Всего несколько теплых весенних дней – и забываешь ужасную холодную зиму, операции, болезни…
“Мой друг Колька” научил меня игре в карты. В основном играли в “петуха” и в “очко”, на деньги, конечно, и довольно большие. Я, помню, один раз выиграл 800 рублей. Много было это тогда или мало – не помню. Но где-то с апреля Николай стал меня брать с собой перед обедом на кухню, где за деньги можно было заказать на второе котлеты или зразы. Там же, за кухней, сидел дядька, который продавал папиросы, табак, шоколад, монпансье, немецкий шпик, американские сигареты (синие пачки с самолетом), спички. Так что стало немного полегче. Одно было плохо – я ничего не понимал в деньгах, путался, не знал, что надо просить сдачу. К тому же я их терял, иногда кто-то находил рубли у меня под кроватью и кричал: “На, малахольный, последний раз!” А я отвечал: “Виноват, исправлюсь”.
В конце мая пришел главврач и сказал, что обо мне спрашивали из детдома, потому что мне пора возвращаться по моим документам. Но смогу ли я сам доехать до своего детдома? Санаторий может меня довезти только до Мытищ, а там я должен сесть на электричку. Ездил ли я один когда-нибудь? Конечно, я с важностью пообещал, что спокойно доеду. Мне выдали большой конверт с рентгенами, направлениями, справками, и я уехал в Москву.