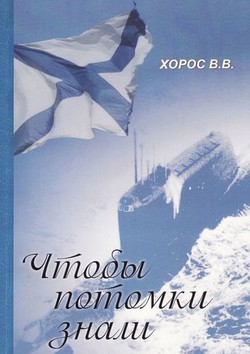Читать книгу Чтобы потомки знали - Витольд Вацлавович Хорос - Страница 3
1. Детство
ОглавлениеРебенком я был достаточно крепким, спокойным и рос не капризным. Вот только лет до пяти боялся темноты и, ложась спать, требовал, чтобы не закрывали дверь в кухню, откуда падал свет на мою кровать. Жили мы в г. Тобольске, в доме бабушки – Вероники Андреевны – о ней разговор впереди. В раннем детстве она мне была ближе родителей, поскольку, как я предполагаю, взяла на себя заботы по воспитанию детей: меня и двоюродной сестры Вали (дочь Анны – сестры моего отца), которая была на два года моложе меня.
Отец – Вацлав Иванович родился 17 сентября 1906 года в станице Екатерино-Никольской Хабаровского (тогда Амурского) края. В город Тобольск он был привезен родителями в 1912 году. Из-за бедности семьи хорошего образования не получил и с 13-летнего возраста начал работать по найму – рассыльным, конторщиком, выучился на землемера и до смерти работал землеустроителем и землемером-картографом. В армии не служил из-за слабого здоровья (переболел туберкулезом).
Мать – Клавдия Алексеевна, 1903 года рождения, из рода Анисимовых, росла в многодетной семье: отец умер рано, оставив жену с 8-ю малолетними детьми. Должного образования не получила (незаконченное среднее), работать начала с 15 лет конторщицей, воспитателем в детском саду и даже пробовала работать учительницей в начальной школе, но по причине скверного характера была вынуждена переквалифицироваться в счетовода. Так с 1924 года до конца трудовой деятельности работала кассиром, счетоводом, бухгалтером. Умерла в 1994 году в городе Чудово
В доме бабушки, где начиналось мое детство, польская речь звучала чаще, чем русская. Однозначно могу сказать, что наша семья имела польские корни. Да и все ближайшие родственники носили польские имена и фамилии. Почему в Сибири появилось так много поляков?
В январе 1863 год в Польском Королевстве, входившем в состав России на правах губернии, началось так называемое «Повстание стычнёво» (Январское восстание). Оно было далеко не первым, но в 1864 году было подавлено с особой жестокостью. Генерал Муравьев, победитель повстанцев, с гордостью заявил: «Я не из тех Муравьевых, которых вешают, а из тех, которые вешают» (одним из пяти повешенных декабристов был Муравьев-Апостол).
Шесть тысяч семей поляков было отправлено в сибирскую ссылку. Почти все они пришли через Тобольск, бывший в те годы губернским городом. Большая часть поляков была расселена по городам и весям Сибири практически до Дальнего Востока. В Тобольске осело 200 семей и в том числе наши предки.
Основателями сибирской ветви нашего рода являются Анна Яковлевна Микульская (знатная шляхетская фамилия) 1845 года рождения и Ян Мартинович Хорос 1840 года рождения.
Собрать какие-либо сведения о их жизни и деятельности не представляется возможным. Известно только, что около 1870 года они создали семью и произвели на свет пять сыновей-Яна, Владислава (Владимира), Александра, Константина, Станислава и двух дочек: Брониславу и Марылю.. Старшим сыном был мой дед Ян (Иован или Иван по российским церковным и метрическим записям). В силу каких обстоятельств – неизвестно, дед начал работать по найму с 14 лет, а в 22 года (в 1897 году) был призван в армию и отправлен служить на Дальний Восток. Отслужив действительную службу, в 1900 году возвратился в Тобольск, где встретил свою суженую – Стасюн Веронику Андреевну, 1882 года рождения. Они сочетались законным браком 12 февраля 1901 года против воли родителей деда, за что он был проклят своей матерью Анной Яковлевной, женщиной строгой и властной по характеру. В ответ на ее проклятья дед заявил: «Ну и насеру я на ее могилу»!
Найти хорошую работу главе молодой семьи не удалось, в помощи родителей ему было отказано и они вынужденно переехали на Дальний Восток, где у деда уже были связи в Амурском пароходстве. На Дальнем Востоке они произвели детей: Станислава (1902 год), Ядвигу (1904 год), Вацлава (1906 год) и Анну (1908 год).
В годы жизни в Амурском крае дед дважды принимал участие в военных действиях: как писал отец в своей автобиографии – по мобилизации на Китайскую и Японскую войны. В действительности «Китайской», как таковой, не было. Русские войска были введены на территорию Манчжурии для охраны, обеспечения строительства и эксплуатации КВЖД (Китайско-Восточной железной дороги) по договору с Китаем. Дорога строилась для надежной связи с военной базой Порт-Артуром и морским портом Дальний, размещенных на арендованной на 25 лет у Китая территории Ляодунского полуострова, а также для сокращения пути к Владивостоку.
Русско-японская война началась 8 февраля 1904 года нападением японцев на русскую эскадру у Порт-Артура и закончилась 5 сентября 1905 года подписанием мирного договора в г. Портсмуте, США. Дед нес службу в охранных войсках и не принимал непосредственного участия в боевых действиях.
В 1912 году семья деда возвратилась в Тобольск и увеличилась еще на сына Эдуарда (1912 год) и дочь Элеонору (1914 год). В 1914 году началась Первая мировая война и деда снова призвали в армию и отправили на германский фронт, где он провоевал до 1917 года. Возвратившись с фронта домой к жене и детям, он опять взвалил на свои плечи тяжкий труд по содержанию семьи. Не имея должного образования и специальности, дед не мог обеспечить многодетной семье достойной жизни и дать образование детям. Тяжелый труд и плохое питание подорвали здоровье деда и он умер в 1924 году в возрасте 49 лет.
Когда дед, уже в гробу, лежал на столе, приехала его мать – пани Анна. Встав в полный рост на пороге комнаты, она во весь голос спросила: «Ну что, Ваня, насрал ты мне на могилу»? Даже мертвым она не простила своего сына. Такой женщиной была моя прабабка! Ее внуки, и в том числе мой отец, плакали, когда им было необходимо идти к ней с поздравлениями в день ее именин (у поляков принято отмечать день именин, а не день рождения).
Все беды и невзгоды деда в полной мере достались и его жене, моей любимой бабушке – Веронике Андреевне. Рано выйдя замуж, она родила и воспитала шестерых детей, при этом трижды провожала мужа на войну. Все ее дети выросли порядочными людьми, любили свою мать и всю жизнь были ей благодарны за ее заботу и ласку. Будучи добрым человеком, она безропотно несла свой тяжкий крест, помогала чем могла тем, кто был еще беднее ее. Она не отказывала в куске хлеба ни одному нищему. Кажется, что за всю свою жизнь она даже мухи не обидела. Я очень любил ее и не случайно именно в ее честь назвал свою первую и самую любимую внучку. Она как и бабуня, тоже Вероника Андреевна. Хочется верить, что бабушка с небес оберегает свою кровную продолжательницу рода.
Мои родители создали семью в 1927 году и, несмотря на молодость (отцу шел 21-й год), уже изрядно потрудились. Однако, не имея образования и специальности, работали кем придется. Были трудности и с трудоустройством – в стране была после Гражданской войны разруха, голодные годы и прочие беды. Выбирать было не из чего. С началом колхозного строительства у отца появилась возможность заключить двухлетний договор с выездом на Север. Так началась наша кочевая жизнь. Первым пунктом работы отца в качестве землеустроителя был Ларьяк. В те годы это была страшная глухомань. Добирались до него мы полмесяца: вначале на пароходе до Нижневартовска, а затем на «оказии» – деревянной баржонке, которую буксировал небольшой катеришко вверх по течению реки Вах до Ларьяка. Было это в июне 1933, мне шел пятый год.
Первоначально, пока еще не была подготовлена для нас квартира, мы поселились в частном доме. Хозяин дома – Сигильетов Егор был женат на политической ссыльной и у них было две дочери – одна на год-полтора старше меня, а вторая – примерно моего возраста. Основным занятием Егора была охота и он большую часть времени проводил в тайге. Хорошо помню, что он отлично стрелял из самодельного лука и виртуозно владел самодельным ножом. Этим ножом с рукояткой из оленьего рога он свежевал добытую дичь, резал мясо, выстругивал стрелы для лука и никогда с ним не расставался.
Родители целыми днями были на работе, а поскольку детских садов не было, мы были предоставлены сами себе. Была у нас компания из пяти – семи малолеток не старше семилетнего возраста. В теплые дни, пока было светло, играли на улице, чаще – на чердаке сарая, где было немного сухой травы (сена) и висела юкола – вяленая щука – корм для собак, иногда и мы ее жевали вместо ирисок.
Игры у нас бывали всякие, вплоть до непристойных – мы с интересом рассматривали друг у друга то, что имелось у противоположного пола и что было спрятано под одеждой. Те, кто был постарше (а таких было больше) в меру своих способностей и познаний пытались нам объяснить смысл и значение наших половых отличий, а также тайны деторождения.
С наступлением темноты мы разбредались по домам. В темных комнатах заняться было нечем, садились на кровать – я в середине, девочки сбоку, прижимались спиной к стене и «щупали» друг друга до прихода родителей. Свет (керосиновую лампу) зажигать нам было запрещено. Разговоры у нас были, как мне кажется, не детские. Сказок друг другу не рассказывали.
Уже глубокой осенью 1933 года мы, наконец, перебрались в двухкомнатную квартиру деревянного одноэтажного дома с удобствами на улице. Дом стоял на возвышенной части берега Ваха. За стеной у нас была еще одна такая же квартира, а рядом, если я правильно помню, стоял еще один точно такой же дом. Когда мы перебрались в свою квартиру, моя жизнь изменилась кардинально: в качестве гувернантки (няни) родители наняли Марусю Бутакову, девушку лет двадцати. Она меня кормила-поила, присматривала за моими занятиями. Игры с компанией, естественно, прекратились. Изредка общался с Федором – братом Маруси. Бутаковы были «спецпереселенцами» – так тогда называли раскулаченных, сосланных в Сибирь на «вечное поселение».
Я был невольным свидетелем разговора Марусиной матери с соседкой. Они сидели на завалинке бутаковского дома, и мать говорила: «Дураки мы, дураки! Чертомелили с утра до ночи, ни отдыха, ни скрёса не видели, а зачем? Все равно все отняли! Зато теперь отдыхаем целыми днями!» Она, конечно, преувеличивала, отец Маруси был работяга и охотник. Все у него ладилось: и дом сам построил, и баньку, и из тайги без добычи не возвращался. Наша семья как-то подружилась с ними, пользовалась их баней. Мне было особенно интересно ходить в баню с Марусей, когда родители были на работе. У нее, в моем понимании, была красивая фигура и мне было приятно смотреть на ее прелести, а она меня совсем не стеснялась: подумаешь, пятилетний сопляк – дитя!
Отец активно включился в работу, уезжал на две-три пятидневки (недель тогда не было, они были под запретом как религиозный предрассудок) в тайгу, вел там геодезическую съемку, а затем дома вечерами эту съемку превращал в карту. Карты у него получались великолепные, он был хорошим мастером. В свободное время любимыми занятиями отца были охота и рыбалка, благодаря чему мы и зимой, и летом жили с рыбой и мясом. Иногда мать покупала оленину или конину и делала пельмени или котлеты. Приходили гости – врач Соколова М. Ф., фельдшер Ирина (кажется, Васильева), еще кто-то. Зимними вечерами собирались небольшой компанией, зажигали керосиновую лампу-«молнию», играли в лото, рассказывали разные житейские истории. Обязательным атрибутом этих «собраний» были кедровые орешки, которых в Ларьяке было множество. Их у нас на зиму был запасен целый мешок. Обходились без выпивки, а при игре в лото чуть ли не каждому «бочонку» была дана своя прибаутка. Например, «десятка» сопровождалась присказкой «десятник Роговский» – такая фамилия была у одного из наших знакомцев – ларьякского строителя прораба Роговского.
В 1934 году пришли в нашу семью беды. Сразу после убийства Кирова началась первая волна массовых репрессий. Первым пострадал младший из братьев Эдуард: как посмел жениться на дочери политического ссыльного меньшевика? -и получил пять лет (всего-то!) Были опубликованы списки бывших предпринимателей и прочих «врагов народа», подлежащих репрессиям. И среди них Хорос В. И. (Владимир Иванович), родной брат моего деда, бывший до революции крупным рыбопромышленником; он имел свои суда, тони, рыбопосольные пункты и другое имущество. Инициалы отца совпали с инициалами его дяди и отец был лишен гражданских прав. Отец начал бороться за правду (ему до революции исполнилось всего 11 лет, и он не мог быть буржуем), но ни окружные, ни областные власти принять правильное решение не захотели (или побоялись)?
Между тем подошло лето и, как всегда, когда лето подходило к макушке, начинались приготовления к поездке в отпуск. Я заранее радовался предстоящей встрече с братьями, сестрой, друзьями, бабуней. А еще мне очень нравились поездки на пароходах. Я мог часами смотреть за работой матросов: как моют шваброй палубу, готовят «лёгость» для заброса на берег швартовых, замер глубины реки не перекате наметкой с совершенно непонятными «не маячит», «подтабак», «семь с половиной»! и так далее.
Не знаю, какой продолжительности отпуск полагался при работе на Севере, но хорошо помню, что почти всегда лето я проводил в Тобольске, в доме бабушки Вероники. В 1934 году, через год после начала работы в Ларьяке отец получил отпуск с 1 июля до 1 октября.
На этот раз родители погостили в Тобольске недолго и уехали в Омск – в то время наш областной центр. В Омске жила какая-то родня, но думаю, что главным было не гостевание, а хлопоты отца в связи с незаконным лишением прав. Опять же предполагаю, что результат был если не нулевым, но и не положительным. Скорее всего, было традиционное: разберемся! Поздней осенью 1934 года мы возвратились в Ларьяк.
25 июня 1935 года отец уволился из Ларьякского райземотдела в связи с окончанием договорного срока и мы снова приехали в Тобольск. Практически одновременно с нами приехали гости из Москвы – старший брат мамы Николай с семьей. Жить они остановились в доме бабушки Татьяны (родительский дом и матери, и Николая), где жила семья Благонравовых – старшей из сестер – Павлы. Вероятно, на совете родственников было решено ехать отцу в Москву, в Верховный суд.
Поездка в Москву произвела на меня очень сильное впечатление. Во-первых, было только что пущено одно из чудес – метро. Еще коренные москвичи не успели в полной мере оценить это чудо, так что уж говорить о нас, провинциалах. Осталось незабываемое впечатление о посещении ипподрома, но не от лошадей, а от присутствовавших на бегах красных маршалов Ворошилова и Буденного. Остались в памяти аттракционы ЦПКО им. Горького, полив улицы Беговой (где жили Анисимовы) дворниками, во время которого я вместе с двоюродными братьями (детьми Николая) в одних трусиках лезли под водяные струи. В эти же дни я впервые отведал груши. Когда мы возвращались в Тобольск по Казанской железной дороге, на станциях торговали яблоками, но не развес, а ведрами. Для меня это было желанное лакомство – в Сибири яблоки еще не выращивали.
Заканчивая отпускную тему, необходимо сообщить читателю, что время это было лучшим в моем детстве. Мы хорошо ладили с сестричкой Валентиной – она вечно ходила с коростами на коленках, а бабуня говорила, что ее «святая земля не носит». Бабуня нас хорошо кормила, но бобы-горох, огурцы-морковь из огорода давала дозировано, рвала их только сама и для каждого в отдельную миску. Зелень получал только тот, кто съест ненавистную тыквенную кашу (тут Валентина была вне конкуренции)! Спать укладывала на полу, постелив нам общую постель, но обязательно поверх общего одеяла между нами клала большое (около метра) и толстое березовое полено (на всякий случай)!
Между делами учила нас польским стишкам: «Вляс котэк на плотэк» и так далее. Уже много позднее я горько сожалел о том, что не стремился освоить польский язык тогда, когда для этого были все возможности, а бабуня не проявила должной настойчивости.
После увольнения из Ларьякского райзема отец заключил подобный договор с Шурышкарским райземотделом и мы поехали жить в село Мужи. Случилось это 25 сентября 1935 года. Наша жизнь в Мужах начиналась примерно так же, как в Ларьяке: квартиру для нас еще только готовили и мы поселились в частном доме. Если я правильно помню, фамилия хозяев была Коневы. Это была молодая семья, у них был один ребенок – мальчик в возрасте около года или чуть больше. В доме было очень тепло, ребенок бегал по всем комнатам в короткой рубашонке, без штанишек, и справлял не только малую, но и большую нужду где придется. Его бабушка постоянно ходила по дому с тряпками и убирала «творения» внука.
Еще не наступила пора осенних холодов, но отец где-то простудился и слег в постель с многочисленными нарывами на ногах и в подавленном настроении. Тогда я впервые услышал, что отец поет. Чаще всего он пел:
Товарищ, товариш,
Болять мои раны,
Болять мои раны в глыбоке.
Одная заживаеть,
Другая нарываеть,
А третья открылась на боке…
Я наивно полагал, что эту песню отец сложил сам про себя, а его тоскливое пение связано с болезнью. Однако вскоре все переменилось: отец получил «казенную» бумагу, которую ждал уже больше года, в которой было подтверждено, что с него сняты все обвинения и он реабелитирован.
В один из первых дней жизни на мужевской земле, во время болезни отца, мама спросила у хозяйки дома, где можно купить рыбы. Та ответила, что всегда придают рыбу на берегу Оби, сразу за магазином. Там останавливаются рыбаки-националы. Схема простая: рыба – деньги – магазин – водка.
Мы с матерью пошли на берег. Там стояла всего одна лодочка-«душегубка», на корме сидел старик-остяк и курил трубку (не знаю почему, но тогда всех «националов» в Омской области называли остяками – они были как бы людьми «второго сорта», с детским складом ума). Мать спросила:
– Рыба есть? – и получила в ответ:
– Рыба нету, щука есть!
Судя по всему, в Мужах, как и в Ларьяке, аборигены щуку в пищу не употребляли, она шла только на юколу, на корм собакам. Между прочим, уже в 60-е годы этого не было, щуку они ели за милую душу.
С получением реабилитации, к отцу вернулась его обычная жизнерадостность и энергия. Мы вселились в подготовленную для нас квартиру: две смежные комнаты в трехкомнатном деревянном доме с общей кухней. В третьей комнате жила женщина с ребенком лет пяти.
Родители ходили на работу, а я был предоставлен сам себе. Часов в 12 дня устраивал себе «перекус» (чаще всего хороший кусок малосольной осетрины), а обедали уже после 16 часов, когда родители приходили с работы. В Мужах я впервые в жизни попал в кино – его показывали в здании церкви (бывшей). Это был фильм (звуковой!) «Чапаев». Для меня это было потрясение, но второй фильм, увиденный в Мужах, «Поэт и царь», показался мне неинтересным и скучным. Он не произвел на меня ни малейшего впечатления.
Когда наступила зима, я пристрастился к лыжам. Крутые, хотя и не очень длинные спуски к реке были отличными горками для лыж и для санок, и на них всегда было много детворы. В первую зиму меня обули в чижи и кисы – традиционную обувь националов. В селе была большая диаспора зырян (так называли людей народности коми), составлявших большую часть населения села. Женщины этой народности были большими умелицами шить одежды националов из меха оленей и диких зверей. Вместо ниток они использовали специально выработанные жилы, которые выдерживали любую сырость и не гнили.
На льду Оби, занесенном снегом, подростки устраивали ловушки (опять же из жил) на снегирей, но не тех снегирей – серых с красной грудкой, которые хорошо известны, а на совершенно белых и более крупных (размером с голубя). Добыть таких птиц считалось большой удачей – они были деликатесной пищей.
В начальный период жизни в Мужах у родителей начали складываться похожие на дружбу отношения с семьей Новицких: муж, жена и чья-то мать. У них было трое детей: дочь Ариадна – моя ровесница, сын Валерий – на год старше и еще один сын, совсем маленький – года три. У меня со сверстниками отношения не сложились из-за Вальки: он уже учился в первом классе, был заносчив и драчлив. Не нажил я друзей и среди «аборигенов». В светлое время суток я играл в общие игры «толпы», а когда темнело – играл дома со своим любимым пароходом (модель одного из реально ходивших на линии Омск – Салехард судов, размером около полуметра, сделанная местным умельцем). Пределом моих мечтаний был заводной автомобиль, такой, какой я видел в магазине в Москве. Моей мечте не суждено было сбыться.
Весной 1936 года я впервые узнал, что такое «белые ночи». Было это, я думаю, в середине мая. На площади около школы была спортивная площадка, где взрослые парни играли в волейбол. Игра настолько захватила меня, что я перестал замечать время. На улице светло, как днем. Но что-то подсказало мне, что времени прошло немало и пора домой. Двери дома на ночь не закрывались, и я без помех вошел в квартиру. Родители уже легли спать, чему я был немало удивлен. За мой «загул» мне попало, как богатому, но отец все-таки осознал, что виной всему была белая ночь. Но ужина я все-таки лишился.
Как и в Ларьяке, отец частенько исчезал на десять – пятнадцать дней в каком-нибудь из лесхозов на геодезических съемках, знакомился там с ненцами и остяками, жил в чумах, приезжал грязный и, как правило, завшивевший. Мать приводила его в «цивилизованный облик», а иногда его новые знакомые приезжали к нам (всегда с подарками – стерлядками, олениной или с осетриной) и даже порой ночевали. Мать называла отца как и положено «Вацэк», над чем аборигены ухохатывались. Выяснилось, что на их языке вацик – это рукавичка. Удивлялись, почему жена так непочтительно называет хорошего человека. Они-то его называли Василием Ивановичем (к слову, иногда и меня, в том числе на заводе в Чудово, работяги называли часто Виктор Васильевич).
Не столько курьезный, сколько знаковый случай произошел во время одной из длительных отлучек отца. Общедоступной бани в поселке не было, но построили небольшую хорошую баню (на восемь – десять посадочных мест) при милиции. Работала она по определенным дням (день для мужчин, день для женщин). В нее доступ был разрешен только «избранным», в том числе и отцу с семьей. Поскольку папы долго не было, мать решила в женский день взять меня с собой. Когда мы, раздевшись в предбаннике, вошли в моечное отделение, мывшиеся там женщины, человек пять, прикрываясь тазами или вениками, заорали на мать: «Ты бы еще мужика привела»! Мать оправдывалась, что он (то есть я) еще несмышленый ребенок, он сядет вон там в уголочке и на вас смотреть не будет. Возможно, так бы все и было, но… одна из мывшихся женщин поразила мое воображение. Когда все успокоились, я сидел в «своем» уголке, мать начала готовить тазы с водой, один из которых поставила мне. А я не мог не посматривать на одну из мывшихся женщин, груди которой больше походили на две огромные дыни и величественно колыхались при каждом ее движении. Я буквально окаменел от невиданного зрелища: такого не может быть!
Так или иначе, но помывка состоялась и все закончилось, казалось бы, без последствий. Ан, нет! Вид подсмотренных мною в бане титек не уходил из моей памяти. Скажу больше – этот образ остался для меня одним из символов настоящей женщины, эталоном женского обаяния и женской привлекательности.
С наступлением теплых дней отец все чаще стал брать меня на рыбалку, а пару раз и на утиную охоту с ночевкой в шалаше на берегу озера. Мне передавался азарт и страсть отца. Я начал понимать, что это не просто способ «убить время», как говаривал отец, отвечая на вопрос «Убил кого-нибудь»? Охотник радуется не тому, что убил утку, а тому, что он сделал меткий выстрел, рыбак радуется попавшей в поставленную снасть крупной рыбине потому, что он удачно поставил эту снасть. Все рыбаки и все охотники имеют первоначально равные возможности, но один возвращается с богатым уловом, а другой действительно только «время убьет». И дело тут отнюдь не в везении. Как говорил великий Суворов: «Раз везенье, два везенье, помилуй Бог, надо же и уменье иметь»!
Летом 1936 года был последний отпуск для моего отца. Остановившись на несколько дней в Тобольске, он вместе с мамой снова уехал в Омск, а я остался с бабушкой и Валентиной. Мне и в голову не могло прийти, что с бабушкой я вижусь в последний раз, а Валя исчезнет из моей жизни на целых 16 лет. Возвращение родителей из Омска чуть не закончилось трагедией: на пароходе у матери началось обострение внематочной беременности и ее чуть живую прямо с пристани увезли в больницу. Операция закончилась благополучно, но, говорят, она была на краю…
Живя в Тобольске до июня 1933 года и приезжая домой с Севера во время отпусков, мы общались главным образом с представителями польской диаспоры. Воспоминания обрывочные: любил ходить в гости к тете Зосе, кажется она была сестрой (возможно двоюродной) бабушки. Она жила на горе, у нее был небольшой садик и она угощала собственными ягодами. Бывали в гостях у тети Марыли (по моему, сестра деда) Шукст за Абрамовским мостом – там были ребята Костя, Ясь, еще кто-то. Но общались с ними только на русском языке, а на польский переходили только если оставались одни поляки.
Мы возвращались в Мужи в августе, мне предстояло в сентябре идти в первый класс, родителей ждала работа. Как обычно, пароход стоял в Самарово часа три – четыре, поэтому отец решил, взяв меня с собой, сходить к своему старшему брату Станиславу. Путь в Остяко-Вогульск был не очень близким, но отец всегда был «скороходом». Не знаю, чувствовали ли братья, что видятся в последний раз, но они хорошо выпили и обсудили проблемы больной матери – бабушки Вероники.
Когда возвращались на пароход – мама оставалась в каюте одна – ноги отца «выписывали вензеля» и на мой вопрос: «Почему»? – он ответил, что соленый муксун, подаренный братом, болтается в берестяном туесе и сильно «болтает».
Несмотря на мою привязанность к нашей польской родне, мне доставляло несказанную радость посещение нашей Анисимовской родни: бабы Тани и братьев Благонравовых – Алеши и Жеки. Братья были старше меня (Алеша – лет на пять, Женя – на два года), но они никогда не унижали меня и не помыкали, хотя равным, вероятно, не считали. Через них я был «вхож» в компанию ребят значительно старше меня и от них я многому полезному научился и много «плохого» набрался. От них я заочно познал законы школьной жизни: не будь ябедой, не выдавай провинившегося, не поддавайся тому, кто сильнее тебя. Шел 1936 год и мои детские годы заканчивались. Скоро мне исполнится 8 лет и меня ждет школа.