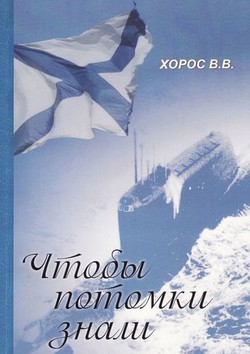Читать книгу Чтобы потомки знали - Витольд Вацлавович Хорос - Страница 4
2. Школьные годы
Оглавление1 сентября 1936 года я пошел в школу. Родители никогда не делали попыток до школы учить меня читать-писать, поэтому азы науки давались мне нелегко. Моими одноклассниками были Новицкие Ариадна и Валерий. Он был второгодником и в первые пару месяцев получал более высокие оценки, чем я. Во втором полугодии все изменилось: я незаметно вышел в число лучших по успеваемости и это стало поводом для Вальки как-то унизить меня при каждом подходящем для этого случае. Иногда он и кулаки в ход пускал, поскольку был старше и немного сильнее. Все закончилось тогда, когда я, не выдержав, сорвался, а накопившаяся во мне злость придала сил: я здорово его отлупил (сыграл свою роль пресловутый фактор внезапности). Вечером к нам прибежала его бабушка с жалобой на мое «хулиганство». Отец, выслушав ее, выставил за дверь, сказав, что когда Валька бил меня, мы к ним с жалобами не ходили. Больше Валька меня терроризировать не пытался.
В самые первые дни учебы, когда наша учительница спросила, кто может изготовить небольшие картонные карточки с буквами, чтобы можно было складывать слова (например, МАМА, РАМА…) я, полагаясь на картографические способности отца, вызвался выполнить эту работу. Когда я, рассказав отцу о задании, попросил его написать эти буквы, он резонно сказал: «Ты вызвался, ты и делай»! Я был в шоке от решения отца, но опозориться перед классом не мог. Пришлось «пыхтеть» самому. Намучившись, но сделав дело добротно, я понял, что «продавать» чужие способности нельзя. Предлагать можно только то, чем сам располагаешь. Это был урок на всю жизнь, но однажды я его забыл. Это было уже на заре моего директорства.
Учебный год я закончил вполне прилично, даже с премией! Вот только по дисциплине были у учительницы ко мне претензии (годовая оценка «уд.», «удовлетворительно», что соответствует современной «тройке»): был я непоседлив, несдержан, невнимателен и еще много «не». Хулиганом не был, но шило в заднице покоя не давало.
Кто и почему принял решение отправить меня на отдых в пионерлагерь в село Кушеват – не знаю. Для этого пришлось срочно принять меня в пионеры. Мне было всего 8 лет и раннее «пионерство» переполняло меня гордостью. К слову следует сказать, что в семье не было даже намека на антисоветские настроения, меня воспитывали в духе патриотизма (даже Павлик Морозов был для меня примером).
В пионерлагерь я ехал охотно (по реке!), но мой пыл быстро остыл: в лагере кормили плохо, было неинтересно, да еще и окружение было «национальным» – отряды были укомплектованы в основном детьми, выросшими в тайге, в тундре, в чумах, и у них были свои привычки и свой уклад жизни. Захотелось домой. Вскоре такая возможность мне представилась и фортуна мне улыбнулась. Гуляя (как всегда, в одиночестве) на берегу Оби, я увидел катер с паузком (грузопассажирская деревянная баржонка) и знакомого по Мужам капитана. Узнав, что они вот-вот отправляются в рейс к Мужам, я попросил его забрать меня. Получив согласие, бегом побежал в лагерь, собрал свои пожитки и успел стать бесплатным пассажиром.
На паузке собралось всего около десятка пассажиров, в том числе две женщины. День был теплый, солнечный, погода тихая, все пассажиры сидели на палубе. В кубрик, расположенный в трюме, никто не рвался. Как-то незаметно с палубы исчезли один из мужиков и женщина. Вскоре мужики один по одному стали подходить ко входу в кубрик и, посмеиваясь, возвращались к общей группе. Меня разобрало любопытство и я тоже решил заглянуть вниз. В кубрике на лежанке, расположенной у стенки прямо напротив входа полуголый мужик и женщина совершали действия, до этого мною никогда не виденные. По своей природной догадливости я понял, чем они заняты, хотя об этом имел весьма скудное представление, но поскольку видеть это все-таки доводилось у животных (если быть совсем точным – у собак и лошадей). Шокированный увиденным, я отошел на свое место, но что важно – никто из взрослых не подал вида, что мое любопытство было замечено. Просто ничего не изменилось. Вскоре мужик из кубрика снова поднялся на палубу и, выслушав со смехом положенную долю шуток, как ни в чем не бывало, присоединился к общей группе. И женщина поднялась на палубу, но несколько позднее.
Мой побег из лагеря родителями был воспринят совершенно спокойно и не имел каких-либо последствий (во всяком случае, для меня). Забегая вперед, скажу, что в пионеры меня принимали еще раз, но это было уже в Тобольске, когда пришел черед вступать всем ученикам нашего класса.
В последних числах июля мы получили телеграмму из Тобольска о возвращении из отпуска в Салехард (тогда еще Обдорск) маминой сестры Агнии с сыном. Пароход в Мужи прибывал 3 августа и накануне отец решил принести на пароход свеженькой рыбки. Сразу после обеда 2 августа мы сели с ним в нашу лодку и поплыли к перемету, поставленному всего метрах в тридцати от берега, почти напротив нашего дома. Около знатчика (маячка из обрезка дерева, длиной около метра) отец принял решение, ставшее роковым: спустить перемет ниже по течению, где был лучше клев, и встав во весь рост, начал тянуть якорь, прочно засевший в илистом грунте. Когда ему удалось выдернуть якорь, он по инерции резко качнулся назад и опрокинул нашу лодченку. Мы оказались в воде. Ветер был не сильный, волны не очень большие, отец приказал мне держаться за него и поплыл к берегу, а я, посчитав, что знатчик надежнее, отцепился от отца. Думаю, что когда отец обнаружил мое отсутствие, его сердце не выдержало.
Люди на берегу сразу заметили катастрофу и в большой лодке поплыли спасать нас. Когда меня вытащили из воды, я уже был без сознания и очнулся только когда лодка подошла к берегу. Отца рядом не было. Когда какие-то люди привели меня домой, мать с приятелем все еще сидели за столом – все произошло настолько быстро! Вечер 2 августа и весь день 3 августа люди неводом искали тело отца и нашли его только утром 4-го. Он не был похож на утопленника, в его желудке не было воды: он умер от разрыва сердца, испугавшись за меня. Так не стало самого дорого мне человека.
Утром 3 августа пришел пароход и Агния, узнав о трагедии, осталась в Мужах, поддержать свою сестру и разделить ее горе. Хоронить отца вышла добрая половина села. Если я правильно помню, на кладбище впервые появился не крест, а деревянный обелиск красного цвета со звездой на верхушке, хотя отец не был ни военным, ни коммунистом. Все решали без нас местные власти. Через несколько дней мы уже вчетвером уехали из села в Салехард, а прожив там неделю, возвратились в Тобольск.
Мне жаль вспоминать об этом, но вскоре, через каких-нибудь пару недель, я не замечал, что мать убита горем. Начала сказывать ее деятельная натура: решение вопроса с возвращением в дом бабушки (она умерла зимой 1936 года), в котором жили арендаторы-квартиранты; были спрятаны под замок новые костюмчик и туфли-баретки, купленные для меня по настоянию тетки Агнии (они так и не были изношены, так как я вырос из них); со своим трудоустройством; с пенсией для меня в связи с утратой кормильца; с оформлением меня в школу. Почти незаметно, с пустяков, начал проявляться ее деспотичный характер, за который она еще в молодости получила от родных сестер кличку «грыжа».
В последних числах августа (мы все еще «временно» жили в доме бабушки Татьяны) она принесла книжку про трех поросят и злого волка и, в порядке «подготовки к школе» заставила меня читать ее вслух. Для меня это чтение оказалось «иезуитским» наказанием – мало того, что я не верил в россказни про поросят, так ведь читать-то эту чушь надо было вслух. Закончилась эта «экзекуция» тем, что я возненавидел сказки.
В дом бабушки Вероники мы вселились в конце августа. Пока устроились в одной комнате (так называемой спальне), а в двух других – квартиранты. Мы окончательно, всерьез и надолго осели в Тобольске. На этом, я думаю, и закончилось мое детство и началось отрочество. Оно было каким-то сумбурным, не было стабильности: новые школы, а мне пришлось их менять, к сожалению, слишком часто; новые учителя, и не только в школе, но и на улице, а под «улицей» я понимаю всю среду обитания, включая соседей, друзей, родственников; новый уклад жизни – не стало отца, который определял и уклад жизни, и взаимоотношения в семье, а для меня был образцом для подражания. Если при жизни отца я не был избалован материнской лаской, то теперь и вообще лишился ее. И причин было несколько.
Наше возвращение в Тобольск совпало с началом разгула репрессий НКВД. Один за другим исчезали родственники, друзья и просто знакомые польского происхождения. Некогда многочисленная польская колония практически исчезла. Аресты захватили не только поляков. Был арестован Благонравов Вениамин – муж старшей сестры мамы, тети Паны, отец моих самых близких братьев Алеши и Жени. Вскоре дошла весть, что в Остяко-Вогульске арестован старший брат отца Станислав, а я впервые подумал: смерть отца спасла его от ареста, а меня от клейма «сын врага народа». Исчезли Шуксты – родственники по отцовской линии. Вскоре арестовали нашего квартиранта Бржезовского – просто бухгалтера. Однако и этого было мало, дело дошло до того, что арестовали сына Бржезовских Анатолия, его подружку Марусю Карпачеву и их приятеля Леву Львова – все они были учениками 9 класса средней школы и я невольно подумал: когда же эти 15-летние подростки успели стать матерыми «врагами народа» и получить срок 10 лет лагерей. Мать Анатолия, женщина неприспособленная к жизни, с высшим гуманитарным образованием, с большим трудом устроилась работать уборщицей в парикмахерскую при городской бане. И с квартиры она съехала, вот только не знаю – добровольно или моя маманя заставила. Именно об этом времени поэт Роберт Рождественский написал:
Полстраны уже сидят,
Полстраны готовятся.
Так оно и было: многие, ложась спать, держали наготове узелок со всем необходимым для тюремной жизни. Мы, второклассники, не успевали зачеркивать в школьных учебниках имена героев Гражданской войны: Якира, Уборевича, Егорова, Тухачевского, Блюхера… А ведь Блюхер был хорошо известен в Тобольске – именно его дивизия освободила город от белых, а муж маминой сестры Евгении Маркин-Вяльцев М. М., бывший первым военкомом Тобольска, командовал одним из полков этой дивизии.
Родной брат матери Андрей служил в те годы следователем НКВД, а все родственники боялись при нем лишнее слово сказать. Когда пришло сообщение об исчезновении экипажа прославленного летчика Леваневского, я в присутствии дяди Андрея высказал удивление: «Как так пропал? Он же челюскинцев спасал! Он не мог пропасть!», то мать получила четкое указание от брата: «Укроти язычок своего щенка! Давно на допросах не была?». А он знал, что говорил: из-за неосторожного слова ребенка арестовывали родителей – не вы ли научили своего дитятко крамоле? Страх прочно поселился в душах людей, боялись разговаривать на работе, на улице, в магазине и даже дома на собственной кухне. И только моя вторая бабушка Татьяна ничего не боялась и продолжала чернить Сталина как могла.
Мою маму многократно поздно вечером забирал из дома НКВДешкник и уводил на допрос. Возвращалась она под утро и не выспавшаяся шла на работу. Позднее она рассказывала, что эти допросы были до примитивности односложны: «Что ты можешь сказать об этом…, а что знаешь о таком-то.., расскажи чем занимается N…, а что говорил…» и так далее. Ничего конкретного, никаких обвинений, просто элементарный сбор компромата на каждого подозрительного или просто заметного гражданина. Все эти допросы и постоянный страх возможного ареста не способствовали смягчению и без того скверного ее характера.
1 сентября 1937 года я пошел во второй класс начальной школы №7. Школа была небольшая, деревянная, всего на 4 класса. Это было угловое здание со входом с Пионерского переулка, того самого, где стоял и родительский дом матери. В этой же школе учился Евгений – он был второгодником в 3 классе. Учился он из рук вон плохо, но не из-за того, что был тупой, а по причине феноменальной лени. Кроме футбола летом и лыж зимой его ничто не интересовало. Контингент в классе был достаточно однородный, не было ярких «звезд», но и тупых вроде бы не было. В памяти сохранились фамилии нескольких одноклассников – Войцеховский Сергей, Мальцев Ансифер, Шестаков, Клюев Геннадий, Полякова Ольга, Яркова Надя, Басаргина, Слепова. С большинством из них меня судьба разводила и снова неожиданно сводила. Со многими из них я учился еще и в 3-м классе.
Не могу сказать, что ко мне плохо относились мои одноклассники, но во время хорового пенья, очень в те годы модного, при исполнении ура-патриотических песен, например:
…помнят псы-атаманы,
Помнят польские паны
Конармейские наши клинки…
на меня обязательно указывали пальцами, так как я был единственным «польским паном». Во время каких-либо стычек или ссор мне кричали: «поляк людей кушает – костей не разбирает». Таков был настрой «темной» части населения – раз поляк, «значит людоед».
Зимой 1937/38 годов и летом 1938 года чаще всего я обретался у братьев – в том самом Пионерском переулке. У Леши были книжки с картинками (хорошее издание А. Дюма), а с Женей – лыжи, а позднее футбол. Но я был самым младшим в их компании и со мной не очень считались, но когда мы оставались в доме втроем (бабушка Таня вела хозяйство и часто ходила на рынок), начинались развлечения отнюдь не детские и способствующие моему скорейшему взрослению: похабная ругань, рассказы, действия, а уже лет с десяти – курение. Первые затяжки мне давались трудно: кружилась голова, появлялась тошнота, но пересиливало желание скорее сравняться со старшими.
Постепенно у меня появились другие друзья – ребятня из соседних домов по Менделеевской улице. Важно отметить – в каждой уличной компании ребят характер игр и развлечений определялся лидером: его интересы становились интересами всей компании. В нашей компании я оказался старшим и стал неформальным лидером.
Когда я пошел в 3 класс (1938/39 учебный год), к нам стал захаживать Георгий Алексеевич Усолкин. Я называл его просто «Дядя». Мне как-то не приходила в голову мысль, что это любовник матери. В то время мне еще вообще понятие «любовник» не было знакомо. «Приручая» меня, он принес отлично изданную книгу «Пятнадцатилетний капитан» и, очевидно, зная мою нелюбовь к чтению (вспомните трех поросят), начал читать ее вслух. Чем дальше, тем сильнее меня захватывал сюжет книги и я уже с нетерпением ждал его очередного прихода, а «нетерпеж» заставил меня попробовать читать самостоятельно. Мое отвращение к книге начало переходить в свою противоположность. Чтение все больше захватывало меня и, когда закончилась первая книга, я начал искать другую, а вскоре записался в городскую детскую библиотеку. Я стал «алкоголиком» книги и уже не мог обходиться без чтения. Вместе с этим начала заметно повышаться успеваемость в школе, хотя и до этого я никогда не был в числе отстающих.
А история с Георгием Алексеевичем закончилась тем, что где-то в конце весны – начале лета 1939 года мать вышла за него замуж (неофициально) и мы переехали в его дом на улице Урицкого. Вот только за эрзац-отца я его не признал, он так и остался навсегда для меня «Дядя».
В нашем квартале на улице Урицкого тоже была своя компания пацанов лет 12 – 14 и лидером у нас был Гошка Ковригин – самый старший из нас (уже в конце 1943 года его призвали в армию). Улица отличалась девственной чистотой газона, это было по сути природное футбольное поле. Поскольку у меня был настоящий футбольный мяч, я был принят в «команду» безоговорочно и игра в футбол была нашим главным занятием. Играли с утра до вечера с короткими перерывами на «кормежку».
Напротив нашего дома на газоне лежал небольшой штабель бревен для ремонта дома. Эти бревна стали нашим «штабом» – здесь происходили все наши сборы, споры, «толковища» и прочие важнейшие ребячьи мероприятия.
У Г.А. было два велосипеда, неслыханное богатство по тем временам, и я получил «допуск» к ним. Учить меня взялся Петя Кондрахин. Он не входил в нашу компанию, поскольку был старше нас всех – ему уже было 16 и он учился в педтехникуме. Дружил он со мной, так как на сеновале нашего сарая была большая корзина (по сути – сундук!), полная книг и старинных журналов, в том числе полные комплекты журналов «Нива» за 1905 и 1906 годы! Кроме того, у меня был настоящий кинопроектор с ручным приводом, я на нем «крутил» обрывки лент из настоящих кинофильмов, так что дружить со мной у Петра был большой интерес.
Обучение езде на велосипеде было недолгим и успешным, если не считать, что в первый же день обучения я на полном ходу врезался в столб электро- и радиоснабжения, за что немедленно получил прозвище «столбогрыз».
В нашем же квартале жили и более взрослые парни, которые в наших играх участия не принимали (уже женихи!), но изредка собирались вместе поиграть в лапту. В игру принимали нас – «мелюзгу». Уже в то время я очень быстро бегал и любил «нарываться», надеясь на свои быстрые ноги. Но однажды я все-таки нарвался на поистине «пушечный» бросок мяча: он попал мне в правую ягодицу и я взвыл от «адской» боли. Это был бросок младшего из братьев Махлоновых (имя уже не вспомню). Забегая вперед, сообщу, что он не вернулся с фронта, а его старший брат Саша оставил на войне ногу, вернулся в Тобольск не костылях и женился на сестре Петра Кондрахина Зое.
В сентябре 1939 года я пошел в 4 класс школы №3 (опять же начальная – всего 4 класса). В одном классе со мной оказался Клюев Геннадий – мой «враг» по школе №7. Только здесь у меня уже не было защиты в лице брата Евгения, а у него – целая компания во главе со старшим братом Александром. Несколько раз мне не удавалось избежать встречи с ними и меня крепко поколачивали. Учебный год не ознаменовался чем-либо выдающимся, закончился без приключений и меня перевели в 5-й класс в школу №11 – уже семилетнюю.
С отчимом у меня близких отношений не получилось, он по своему характеру и образу жизни сильно отличался от отца. Но с матерью они жили душа в душу: оба бережливые, запасливые, друзей не заводили, общались только с родственниками. О моем воспитании особенно не беспокоились: учусь неплохо, не хулиган, так что беспокоиться не о чем. Отдалившись от братьев я и курить перестал.
У Г.А. было два брата и сестра. Старший брат Иван был хорошим сапожником, у него было две дочери – Люба (медсестра, погибла на войне в Сталинграде) и Алевтина, немного старше меня, летом 1940 года мы с ней случайно оказались в одном пионерлагере в с. Абалак. Году в 1947 она почему-то недолго жила с нами в нашем отчем доме на улице Менделеева. Второй брат отчима Василий в Первую Мировую войну был в германском плену, его дочь Зоя была года на три – четыре старше меня. Мы с ней общались редко, только когда бывали в гостях у Василия. У них я познакомился с подружкой Зои – Шурой. Естественно, с ними я был почти на равных, во всяком случае на «ты» и без «бемолей». Я тогда и предположить не мог, что пройдет совсем немного времени и эта Шура, с которой я сегодня «запросто», превратится для меня в Александру Ефимовну – преподавателя биологии и классного руководителя в параллельном классе.
Сестра Г. А. Наталья была замужем за Григорием Балиным (его я никогда не видел и ничего о нем не знаю) и у нее было два сына – Виктор и Константин. С Виктором отец когда-то вместе работал и они были хорошими приятелями. Виктор прожил долгую жизнь, иначе сложилась судьба у Кости. Он был фельдшером, жил в Салехарде, женился в 1938 году, а в 1939 его призвали в армию. Детей они нажить не успели. Служить его (по специальности) отправили на западную границу и он принял участие в разделе Польши – освобождении Западной Белоруссии, после чего их часть стояла в м. Кальвария на самой линии разграничения с Германией. Война к ним пришла в первые минуты ее начала.
Разрозненные группы безоружных военных отступали (бежали) в сторону Литвы. 28 июня их группу предал литовец и немцы взяли их (пять – шесть человек) в плен без единого выстрела. Попал в лагерь в Восточной Пруссии под Фридландом. Находился в этом лагере до 1944 года и выжил только за счет своей специальности – немецкие врачи признали его как врача и обеспечили ему более-менее терпимое содержание. Да и свои военнопленные оберегали, как могли.
С началом боев в Восточной Пруссии пленных погнали по льду Висленского залива на Запад. Костя за годы плена уже настолько ослаб, что идти самостоятельно не мог, его несли под руки. Освободили его 2 мая 1945 года канадцы. В Тобольск он вернулся самым первым из числа военнопленных осенью 1945 года в форме канадской армии. Безупречное его поведение в плену было подтверждено многими пленными в фильтрационном лагере, он успешно прошел «фильтрацию» и был освобожден. Только дома ему все равно не было спокойной жизни и он с семьей был вынужден перебраться в Салехард, где было меньше придирок.
Жена Кости Ася (Васса Георгиевна) – женщина безупречного поведения. Всю войну (она переехала к матери Кости еще до начала войны) работала преподавателем в учительском институте, верила в то, что муж жив и ждала его. Она была всего на восемь лет старше меня и я всегда любовался ею, как женщиной и восхищался супружеской верностью. Для меня она навсегда осталась идеалом женщины.
Мать Г. А. – Матрена Николаевна не оставила в моей памяти заметного следа. Относилась она ко мне как к «чужаку» – это я чувствовал и взаимно не питал к ней теплых чувств. Два сложных характера – она и моя мать ладили с большим трудом (из любви к «Егорчику», как они обе его называли). Мать терпела М.Н. только пока был в доме сам Егорчик, а когда его осенью 1941 года призвали в армию, выжила ее из собственного дома и сплавила дочери Наталье.
После мобилизации Георгия направили в учебный лагерь в Черемушки (Кузбасс?), учили на пулеметчика и в начале 1942 года направили с маршевым батальоном в сторону Северо-Западного фронта. За маршрутом эшелона мы проследили по денежным переводам. Будучи человеком опытным, он посылал с каждой крупной станции по 10—15 рублей, хорошо понимая, что письма могут по дороге затеряться, а вот перевод – никогда. На Северо-Западе зимой 1942 года шли особенно тяжелые бои – Красная Армия готовилась прорвать блокаду Ленинграда.
Ни одного письма с фронта мы так и не получили, он по сообщению военкомата числился «без вести пропавшим». Я предполагаю, что их батальон на ближних подступах к линии фронта попал под бомбежку, в которой мало кто уцелел. В регулярную часть он так и не прибыл.
Мои воспоминания о жизни с отчимом и его близким несколько затянулись и пора возвращаться непосредственно к своим делам.
1 сентября 1940 года я пришел в 5-й класс семилетней школы №11. В одном классе со мной оказались мой брат Евгений (дважды второгодник!), соученик по 2—3 классам Сергей Войцеховский, Волосатов и еще кое-кто из старых знакомых по школе №7. Были у нас неплохие преподаватели, в том числе даже мужского пола: математику преподавал П. Криворотов – директор школы; русский язык и литературу – Нижегородцев, историю – Е. Клочкова. Даже пение преподавал мужик – фамилию не вспомню. Он неплохо играл на гитаре и пел, разучивал с нами не только «Варшавянку», «Интернационал» и другие патриотические песни, но еще рассказывал об их авторах и историю создания песни.
Любимым моим предметом стала история, а с учительницей возникла взаимная симпатия (чисто деловая!) и она обеспечила меня учебником «История древнего мира» (дефицит!) в числе самых первых. Очень сильным преподавателем была Прозорова – большая поклонница Тимирязева и называла его только по имени-отчеству (Климент Аркадьевич). В нашем же классе учился ее сын-скрипач. Больше всего я не любил уроки немецкого языка, хотя преподавала его Воробьева Эмма (Михайловна, кажется), яркая, очень красивая блондинка – волосы были совершенно белые, причем не только у нее, но и у ее дочери. В школе был небольшой буфет, в котором почти всегда придавали вкусные пирожки с картошкой.
В классе уже наблюдались зачатки любовных «страданий» – записочки, стрельба глазками и прочие сигналы симпатий. И меня эта «эпидемия» не миновала: я попал «под обстрел» со стороны Лиды Головчанской – малопривлекательной, но очень настырной хохлушки. Избавиться от ее преследований было нелегко. Многие из одноклассников уже курили, матерно ругались, играли на деньги… Наиболее «отпетыми» были Волосатов и Дружинин. Мой брат Жека ничем не выделялся, кроме телосложения, казался спокойным и даже флегматичным. Видели бы его на футбольном поле!
Сразу после окончания учебного года меня отправили в пионерлагерь в Жуковку. Там у меня состоялось два знакомства с людьми, сыгравшими заметную роль в моей жизни. Я попал в один отряд с Геннадием Кугаевским. Именно он по своему выбору подобрал ребят в свою палату. Такое «самовластие» ему позволяли потому, что начальником лагеря была его сестра Ирина. Она была, в свою очередь, женой фотохудожника Елисеева, работавшего в «Тобольской правде». Все это я узнал позднее, когда мы надолго подружились с Геной. В нашем отряде он был безусловным лидером.
Другим лидером стала Людмила. Это она расписала своих подружек по «женихам». Себе она, естественно, выбрала Гену, а своей лучшей подружке Иде Арефьевой назначила меня. «Жениховство» было, разумеется, формальным, да оно и не могла быть иным, так как всем нам было не больше 13 – 14 лет. Однако, жизнь повернулась так, что Ида позднее стала моей подругой на годы. Но об этом будет сказано ниже.