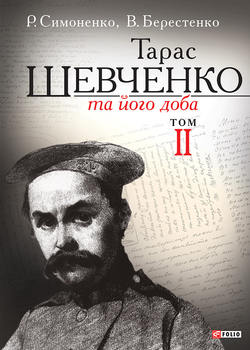Читать книгу Тарас Шевченко та його доба. Том 2 - Віктор Берестенко - Страница 7
Т. Г. ШЕВЧЕНКО І РЕВОЛЮЦІЙНИЙ РУХ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ
ІСТОРИЧНІ ТВОРИ СУЧАСНИКА, ДРУГА Й ОДНОДУМЦЯ ДЕКАБРИСТІВ О. С. ПУШКІНА
Світоглядний вплив О. С. Пушкіна на Шевченка
Сучасники про Пушкіна
Нова зустріч з О. С. Пушкіним після його чергового заслання в Михайлівське
ОглавлениеВстреча моя с Пушкиным на новом нашем поприще имела свою занимательность. Пока он жил и отдыхал в Михайловском, я уже успел поступить в тайное общество: обстоятельства так распорядились моей судьбой! Ещё в лицейском мундире я был частым гостем артели, которую тогда составляли Муравьёвы (Александр и Михаил), Бурцов, Павел Колошин и Семёнов. С Колошиным я был в родстве. Постоянные наши беседы о предметах общественных, о зле существующего у нас порядка вещей и о возможности изменения, желаемого многими втайне, необыкновенно сблизили меня с этим мыслящим кружком; я сдружился с ним, почти жил в нём. Бурцов, которому я больше выказывался, нашёл, что по мнениям и убеждениям моим, вынесенным из Лицея, я готов для дела. На этом основании он принял меня и Вольковского, который поступил в гвардейский генеральный штаб, сделался его товарищем по службе. Бурцов тотчас узнал его, понял и оценил.
Эта высокая цель жизни самою своею таинственностью и начертанием новых обязанностей резко и глубоко проникла в душу мою; я как будто получил особенное значение в собственных своих глазах: стал занимательнее смотреть на жизнь во всех проявлениях буйной молодости, наблюдал за собою, как за частицей, хотя ничего не значащею, но входящею в состав того целого, которое рано или поздно должно было иметь благотворное своё действие.
Первая моя мысль была открыться Пушкину, он всегда со мною много мыслил о деле общем (res publika), по-своему проповедовал в нашем смысле – и изустно, и письменно, стихами и прозой. Не знаю, к счастию ли его или к несчастью, он не был тогда в Петербурге, а то не ручаюсь, что в первых порывах, по исключительной дружбе моей к нему, я, может быть, увлёк бы его с собою. Впоследствии, когда думалось мне исполнить эту мысль, я уже не решался вверить ему тайну, не мне одному принадлежащую, где малейшая неосторожность могла быть пагубна всему делу. Подвижность пылкого его нрава, сближение с людьми ненадёжными пугали меня. К тому же в 1818 году, когда часть гвардии была в Москве по случаю приезда прусского короля, столько было опрометчивых действий одного члена общества, что признали необходимым делать выбор со всею строгостью, и даже несколько лет спустя объявлено было об уничтожении общества, чтобы тем удалить неудачно принятых членов. На этом основании я присоединил к союзу одного Рылеева, несмотря на то, что всегда был окружён многими, разделяющими со мной мой образ мыслей.
Естественно, что Пушкин, увидя меня после первой нашей разлуки, заметил во мне некоторую перемену и стал подозревать, что я от него что-то скрываю. Особенно во время его болезни и продолжительного выздоровления, видаясь чаще обыкновенного, он затруднял меня спросами и расспросами, от которых я, как умел, отделывался, успокаивая его тем, что он лично, без всякого воображаемого им общества, действует как нельзя лучше для благой цели: тогда везде ходили по рукам, переписывались и читались наизусть его «Деревня», «Ода на свободу», «Ура, в Россию скачет…» и другие мелочи в том же духе. Не было живого человека, который не знал бы его стихов.
Нечего говорить о разных его выходках, которые везде повторялись. Например, в Царском Селе Захаржевского медвежонок сорвался с цепи от столба, на котором была устроена его будка, и побежал в сад, где мог встретиться в тёмной аллее с императором, если бы на этот раз не встрепенулся его маленький шарло и не предостерёг бы от этой опасной встречи. Медвежонок, разумеется, тотчас был истреблён, а Пушкин при этом случае не обинуясь говорил: «Нашёлся один добрый человек, да и тот медведь!» Таким же образом он во всеуслышание в театре кричал: «Теперь самое безопасное время – по Неве идёт лёд». В переводе: нечего опасаться крепости. Конечно, болтовня эта – вздор; но этот вздор, похожий несколько на поддразнивание, переходил из уст в уста и порождал разные толки, имевшие своё развитие; следовательно, и тут далее некоторым образом достигалась цель, которой он несознательно (?) содействовал.
Между тем тот же Пушкин, либеральный по своим воззрениям34, имел какую-то жалкую привычку изменять благородному своему характеру и очень часто сердил меня тем, что любил, например, вертеться у оркестра около Орлова, Чернышёва, Киселёва и других: они с покровительственной улыбкой выслушивали его шутки, остроты. Случалось из кресел сделать ему знак, он тотчас прибежит. Говоришь, бывало: «Что тебе за охота, любезный друг, возиться с этим народом; ни в одном из них ты не найдёшь сочувствия и пр.». Он терпеливо выслушает, начнёт щекотать, обнимать, что обычно делал, когда потеряется. Потом смотришь – Пушкин опять с тогдашними Львами! (Анахронизм: тогда не существовало ещё этого аристократического прозвища. Извините!)
Странное смешение в этом великолепном создании! Никогда не переставал я любить его, знаю, что и он платил мне тем же чувством; но невольно из дружбы к нему желалось, чтобы он наконец настоящим образом взглянул на себя и понял своё призвание. Видно, впрочем, что не могло и не должно было быть иначе; видно, нужна была и эта разработка, коловшая нам, слепым, глаза.
Не заключайте, пожалуйста, из этого ворчания, что я когда-нибудь был спартанцем, каким-нибудь Катоном; далеко от всего этого: всегда шалил, дурил и кутил с добрым товарищем. Пушкин сам увековечил это стихами ко мне, но, при всей моей готовности к разгулу с ним, хотелось, чтобы он не переступал некоторых границ и не профанировал себя, если можно так выразиться, сближением с людьми, которые по их положению в свете могли волею и неволею набрасывать на него некоторым образом тень.
Между нами было и не без шалостей. Случалось, зайдёт он ко мне. Вместо «здравствуй», я его спрашиваю: «От неё ко мне или от меня к ней?» Уж это надо вам объяснять, если принялся болтать…
Самое сильное нападение Пушкина на меня по поводу общества было, когда он встретился со мною у Н. И. Тургенева35, где тогда собирались все желающие участвовать в предполагаемом издании политического журнала. Тут, между прочими, были Куницын36 и наш лицейский товарищ Маслов. Мы сидели кругом большого стола. Маслов читал статью свою о статистике. В это время я слышу, что кто-то сзади берёт меня за плечо. Оглядываюсь – Пушкин. «Ты что здесь делаешь? Наконец поймал тебя на самом деле», – шепнул он мне на ухо и прошёл дальше. Кончилось чтение. Мы встали. Подхожу к Пушкину, здороваюсь с ним; подали чай, мы закурили сигаретки и сели в уголок.
– Как же ты мне никогда не говорил, что знаком с Николаем Ивановичем? Верно, что ваше общество в сборе? Я совершенно нечаянно зашёл сюда, гуляя в Летнем саду. Пожалуйста, не секретничай: право, любезный друг, это ни на что не похоже!
Мне и на этот раз было легко без большого обмана доказать ему, что это совсем не собрание общества, им отыскиваемого, что он может спросить Маслова и что я тут совершенно неожиданно. «Ты знаешь, Пушкин, что я отнюдь не литератор, и, вероятно, удивляешься, что я попал некоторым образом в сотрудники журнала. Между тем, это очень просто, как сейчас сам увидишь. На днях был у меня Николай Тургенев; разговорились мы с ним о необходимости и пользе издания в возможно свободном направлении; тогда это была преобладающая его мысль. Увидел он у меня на столе недавно появившуюся книгу m-me Stael «Considerations sur la Revolution Francaise»37 и советовал мне попробовать написать что-нибудь об ней и из неё. Тут же пригласил меня в тот же вечер быть у него, – вот я и здесь!»
Не знаю настоящим образом, до какой степени это объяснение, совершенно справедливое, удовлетворило Пушкина; только вслед за этим у нас переменился разговор, и мы вошли в общий круг. Глядя на него, я долго думал: не должен ли я и в самом деле предложить ему соединиться с нами? От него зависело принять или отвергнуть моё предложение. Между тем, тут же невольно являлся вопрос: почему никто из близко знакомых ему старших наших членов не думал об этом? Значит, их останавливало то же, что меня пугало; образ его мыслей всем хорошо был известен, но не было полного к нему доверия.
Преследуемый мыслию, что у меня есть тайна от Пушкина и что, может быть, этим самым я лишаю общество полезного деятеля, почти решался броситься к нему и всё высказать, зажмуря глаза на последствия. В постоянной этой борьбе с самим собою, как нарочно, вскоре мне случилось встретить Сергея Львовича на Невском проспекте.
– Как вы, Сергей Львович? Что наш Александр?
– Вы когда его видели?
– Несколько дней тому назад у Тургенева.
Я заметил, что Сергей Львович что-то мрачен.
– Je n’ai rien de mieux a faire que de me mettre en quatro pour retablir la reputation la mon cher fils38. Видно, вы же знаете последнюю его проказу.
Тут рассказал мне что-то, право, не помню, что именно, да и припоминать не хочется.
– Забудьте этот вздор, почтенный Сергей Львович! Вы знаете, что Александру многое можно простить, он окупает свои шалости неотъемлемыми достоинствами, которых нельзя не любить.
Отец пожал мне руку и продолжал свой путь.
Я задумался, и, признаюсь, эта встреча, совершенно случайная, произвела своё впечатление: мысль о принятии Пушкина исчезла из моей головы. Я страдал за него, и подчас мне опять казалось, что, может быть, тайное общество сокровенным своим клеймом поможет ему повнимательней и построже взглянуть на самого себя, сделать некоторые изменения в ненормальном своём быту. Я знал, что он иногда скорбел о своих промахах, обличал их в близких наших откровенных беседах, но, видно, не пришла ещё пора кипучей его природе угомониться. Как ни вертел я это в уме и сердце, кончил тем, что сознал себя не в праве действовать по личному шаткому воззрению, без полного убеждения в деле, ответственном пред целию самого союза.
После этого мы как-то не часто виделись. Круг знакомства нашего был совершенно розный. Пушкин кружился в большом свете, а я был как можно подальше от него. Летом манёвры и другие служебные занятия увлекали меня из Петербурга. Всё это, однако, не мешало нам, при всякой возможности, встречаться с прежнею дружбой и радоваться нашим встречам у лицейской братии, которой уже немного оставалось в Петербурге; большею частью свидания мои с Пушкиным были у домоседа Дельвига.
В генваре 1820 года я должен был ехать в Бессарабию к больной тогда замужней сестре моей. Прожив в Кишинёве и Аккермане почти четыре месяца, в мае возвращался с нею, уже здоровою, в Петербург. Белорусский тракт ужасно скучен. Не встречая никого на станциях, я обыкновенно заглядывал в книгу для записывания подорожных и там искал проезжих. Вижу раз, что накануне проехал Пушкин в Екатеринослав. Спрашиваю смотрителя: «Какой это Пушкин?» Мне и в мысль не приходило, что это может быть Александр. Смотритель говорит, что это поэт Александр Сергеевич едет, кажется, на службу, на перекладной, в красной русской рубашке, в опояску, в поярковой шапке. (Время было жаркое.) Я тут ровно ничего не понимал: живя в Бессарабии, никаких известий о наших лицейских не имел. Это меня озадачило.
В Могилёве, на станции, встречаю фельдъегеря, разумеется, тотчас спрашиваю его: не знает ли он чего-нибудь о Пушкине. Он ничего не мог сообщить об нём, а рассказал только, что за несколько дней до его выезда сгорел в Царском Селе Лицей, остались одни стены, и воспитанников поместили во флигеле39. Всё это вместе заставило меня нетерпеливо желать скорей добраться до столицы. Там после служебных формальностей я пустился разузнавать об Александре. Узнаю, что в одно прекрасное время пригласил его полицеймейстер к графу Милорадовичу, тогдашнему петербургскому генерал-губернатору. Когда привезли Пушкина, полицеймейстер приказал ехать в его квартиру и опечатать все бумаги. Пушкин, слыша это приказание, говорит ему:
– Граф, вы напрасно это делаете. Там не найдёте того, что ищете. Лучше велите мне дать перо и бумаги, я здесь же всё вам напишу. (Пушкин понял, в чём дело.)
Милорадович, тронутый этою свободною откровенностью, торжественно воскликнул:
– Ah, c’est chevaleresque40, – и пожал ему руку.
Пушкин сел, написал все контрабандные свои стихи и попросил дежурного адъютанта отнести их графу в кабинет. После этого подвига Пушкина отпустили домой и велели ждать дальнейшего приказания.
Вот всё, что я дознал в Петербурге. Еду потом к Энгельгардту41, обращаюсь к нему с тем же тревожным вопросом.
Директор рассказал мне, что государь (это было после того, как Пушкина уже призывали к Милорадовичу, чего Энгельгардт до свидания с царём и не знал) встретил его в саду и пригласил с ним пройтись.
– Энгельгардт, – сказал ему государь, – Пушкина надобно сослать в Сибирь: он наводнил Россию возмутительными стихами; вся молодёжь наизусть их читает. Мне нравится откровенный его поступок с Милорадовичем, но это не исправляет дела.
Директор на это ответил:
– Воля вашего величества, но вы мне простите, если позволите, я позволю себе сказать слово за бывшего моего воспитанника; в нём развивается необыкновенный талант, который требует пощады. Пушкин теперь уже – краса современной нашей литературы, а впереди ещё большие на него надежды. Ссылка может губительно подействовать на пылкий нрав молодого человека. Я думаю, что великодушие ваше, государь, лучше вразумит его.
Не знаю, вследствие ли этого разговора, только Пушкин не был сослан, а командирован от коллегии иностранных дел, где состоял на службе, к генералу Инзову, начальнику колоний Южного края. Проезжай Пушкин сутками позже до поворота на Екатеринослав, я встретил бы его дорогой, и как отрадно было бы обнять его в такую минуту! Видно, нам суждено было только раз ещё повидаться, и то не прежде 1825 года.
В промежутке этих пяти лет генерала Инзова назначили наместником Бессарабии;
с ним Пушкин переехал из Екатеринослава в Кишинёв, впоследствии оттуда поступил в Одессу к графу Воронцову по особым поручениям. Я, между тем, по некоторым обстоятельствам, сбросил конно-артиллерийский мундир и преобразился в судьи уголовного департамента московского надворного суда. Переход резкий, имевший, впрочем, тогда своё значение.
Князь Юсупов42 (во главе тех, про которых Грибоедов в «Горе от ума» сказал: «Что за тузы в Москве живут и умирают!»), видя на бале у московского военного генерал-губернатора князя Голицына неизвестное ему лицо, танцующее с его дочерью (он знал, хоть по фамилии, всю московскую публику), спрашивает Зубкова43: кто этот молодой человек? Зубков называет меня и говорит, что я – надворный судья.
– Как! Надворный судья танцует с дочерью генерал-губернатора? Это вещь небывалая, тут кроется что-нибудь необыкновенное.
Юсупов – не пророк, а угадчик, и точно, на другой год ни я, ни многие другие уже не танцевали в Москве!
В 1824 году в Москве точно узналось, что Пушкин из Одессы сослан на жительство в псковскую деревню отца своего, под надзор местной власти; надзор этот был поручен Пещурову, тогдашнему предводителю дворянства Опочковского уезда. Все мы, огорчённые несомненным этим известием, терялись в предположениях. Не зная ничего положительного, приписывали эту ссылку бывшим тогда неудовольствиям между ним и графом Воронцовым. Были разнообразные слухи и толки, замешивали даже в это дело и графиню. Всё это нисколько не утешало нас. Потом вскоре стали говорить, что Пушкин вдобавок отдан под наблюдение архимандрита Святогорского монастыря, в четырёх верстах от Михайловского. Это дополнительное сведение делало нам задачу ещё сложнее, нисколько не разрешая её.
С той минуты, как я узнал, что Пушкин в изгнании, во мне зародилась мысль непременно навестить его. Собираясь на рождество в Петербург для свидания с ним, я предположил съездить и в Псков к сестре Набоковой; муж её командовал тогда дивизией, которая там стояла, а оттуда уже рукой подать в Михайловское. Вследствие этой программы я подал в отпуск на двадцать дней в Петербургскую и Псковскую губернии. Перед отъездом, на вечере у того же князя Голицына, встретился я с А. И. Тургеневым, который незадолго до того приехал в Москву. Я подсел к нему и спрашиваю: не имеет ли он каких-либо поручений к Пушкину, потому что я в генваре буду у него?
– Как! Вы хотите к нему ехать? Разве не знаете, что он под двойным надзором – и полицейским и духовным?
– Всё это знаю; но также знаю, что нельзя не навестить друга после пятилетней разлуки в теперешнем его положении, особенно когда буду от него с небольшим в ста вёрстах. Если не пустят к нему, уеду назад.
– Не советовал бы; впрочем, делайте, как знаете, – прибавил Тургенев.
Опасения доброго Александра Ивановича меня удивили, и оказалось, что они были совершенно напрасны. Почти те же предостережения выслушал я и от В. Л. Пушкина, к которому заезжал проститься и сказать, что увижу его племянника. Со слезами на глазах дядя просил расцеловать его.
Как сказано, так и сделано.
Проведя праздник у отца в Петербурге, после крещения я поехал в Псков. Погостил у сестры несколько дней и от неё вечером пустился из Пскова; в Острове, проездом ночью, взял три бутылки «клико» и к утру следующего дня уже приближался к желаемой цели. Свернули мы наконец с дороги в сторону, мчались среди леса по гористому просёлку: все мне казалось не довольно скоро. Спускаясь с горы, недалеко уже от усадьбы, которой за частыми соснами нельзя было видеть, сани наши так наклонились набок, что ямщик слетел. Я с Алексеем, неизменным моим спутником от лицейского порога до ворот крепости, кой-как удержался в санях. Схватили вожжи.
Кони несут среди сугробов, опасности нет: в сторону не бросятся, всё лес, и снег им по брюхо, править не нужно. Скачем опять в гору извилистою тропой; вдруг крутой поворот, и как будто неожиданно вломились с маху в притворенные ворота, при громе колокольчика. Не было силы остановить лошадей у крыльца, протащили мимо и засели в снегу неочищенного двора…
Я оглядываюсь: вижу на крыльце Пушкина, босиком, с поднятыми вверх руками. Не нужно говорить, что тогда во мне происходило. Выскакиваю из саней, беру его в охапку и тащу в комнату. На дворе страшный холод, но в иные минуты человек не простужается. Смотрим друг на друга, целуемся, молчим. Он забыл, что надобно прикрыть наготу, и не думал о заиндевевшей шубе и шапке.
Всё это происходило на маленьком пространстве. Комната Александра была возле крыльца, с окном на двор, через которое он увидел меня, услышал колокольчик. В этой небольшой комнате помещалась кровать его с пологом, письменный стол, шкаф с книгами и проч., и проч. Во всём поэтический беспорядок, везде разбросаны исписанные листы бумаги, всюду валялись обкусанные, обожжённые кусочки перьев (он всегда, с самого Лицея, писал оглодками, которые едва можно было держать в пальцах). Вход к нему прямо из коридора; против его двери – дверь в комнату няни, где стояло множество пяльцев. После первых наших обниманий пришёл и Алексей, который в свою очередь кинулся целовать Пушкина: он не только близко знал и любил поэта, но и читал наизусть многие из его стихов. Я между тем приглядывался, где бы умыться и сколько-нибудь оправиться.
Дверь во внутренние комнаты была заперта, дом не топлен. Кой-как всё это тут же уладили, копошась среди отрывистых вопросов: что? как? где? и проч. Вопросы большею частью не ожидали ответов. Наконец помаленьку прибрались; подали нам кофе; мы уселись с трубками. Беседа пошла правильнее: много надо было хронологически рассказать, о многом расспросить друг друга. Теперь не берусь всего этого передать.
Вообще Пушкин показался мне несколько серьёзнее прежнего, сохраняя, однако ж, ту же весёлость; может быть, самое положение его произвело на меня это впечатление. Он, как дитя, был рад нашему свиданию, несколько раз повторял, что ему ещё не верится, что мы вместе. Прежняя его живость во всём проявлялась, в каждом слове, в каждом воспоминании: и не было конца неумолкаемой нашей болтовне. Наружно он мало переменился, оброс только бакенбардами; я нашёл, что он тогда был очень похож на тот портрет, который тогда видел в «Северных цветах» и теперь при издании его сочинений П. В. Анненковым44.
Пушкин сам не знал причины его удаления в деревню; он приписывал удаление из Одессы козням графа Воронцова из ревности: думал даже, что тут могли действовать некоторые смелые его бумаги по службе, эпиграммы на управление и неосторожные частые его разговоры о религии.
Мне показалось, что он вообще неохотно об этом говорил; я это заключил по лаконическим, отрывистым его ответам на некоторые мои спросы, и поэтому я его просил оставить эту статью, тем более, что все наши толкования ни к чему не вели, а отклоняли нас от другой, близкой нам беседы. Заметно было, что ему как будто несколько наскучила прежняя шумная жизнь, в которой он частенько терялся.
Среди разговора ex abrupto45 он спростил меня, что об нём говорят в Петербурге и Москве? При этом вопросе рассказал мне, будто бы император Александр ужасно перепугался, найдя его фамилию в записке коменданта о приезжих в столицу, и тогда только успокоился, когда убедился, что не он приехал, а его брат Лёвушка. На это я ему ответил, что он совершенно напрасно мечтает о политическом своём значении, что вряд ли кто-нибудь на него смотрит с этой точки зрения, что вообще читающая наша публика благодарит его за всякий литературный подарок, что стихи его приобрели народность во всей России и, наконец, что близкие и друзья помнят и любят его, желая искренне, чтоб скорее кончилось его изгнание.
Он нетерпеливо выслушал меня и сказал, что несколько примирился в эти четыре месяца с новым своим бытом, вначале очень для него тягостным; что тут хотя невольно, но всё-таки отдыхает от прежнего шума и волнения; с музой живёт в ладу и трудится охотно и усердно. Скорбел только, что с ним нет сестры его, но что, с другой стороны, никак не согласится, чтоб она по привязанности к нему проскучала целую зиму в деревне. Хвалил своих соседей в Тригорском, хотел даже везти меня к ним, но я отговорился тем, что приехал на такое короткое время, что не успею и на него самого наглядеться. Среди всего этого много было шуток, анекдотов, хохоту от полноты сердечной. Уцелели бы все эти дорогие подробности, если бы тогда был среди нас стенограф.
Пушкин заставил меня рассказать ему про всех наших первокурсных Лицея; потребовал объяснения, каким образом из артиллериста я преобразился в судьи. Это было ему по сердцу, он гордился мною и за меня! Вот его строфы из «Годовщины 19-го октября» 1825 года, где он вспоминает, сидя один, наше свидание и моё судейство:
И ныне здесь в забытой сей глуши,
В обители пустынных вьюг и хлада
Мне сладкая готовилась отрада, —
Поэта дом опальный.
О Пущин мой, ты первый посетил,
Ты усладил изгнанья день печальный,
Ты в день его Лицея превратил,
Ты освятил тобой избра́нный сан,
Ему в общественного мненья
Завоевал почтение граждан.
Незаметно коснулись опять подозрений насчёт общества. Когда я ему сказал, что не я один поступил в это новое служение отечеству, он вскочил со стула и вскрикнул:
– Верно, всё это в связи с майором Раевским46, которого пятый год держат в Тираспольской крепости и ничего не могут выпытать. – Потом, успокоившись, продолжал: – Впрочем, я не заставляю тебя, любезный Пущин, говорить. Может быть, ты и прав, что мне не доверяешь. Верно, я этого доверия не стою – по многим моим глупостям.
Молча и крепко расцеловав его, мы обнялись и пошли ходить: обоим нужно было вздохнуть.
Вошли в нянину комнату, где собрались уже швеи. Я тотчас заметил между ними одну фигурку, резко отличающуюся от других, не сообщая, однако, Пушкину моих заключений. Я невольно смотрел на него с каким-то новым чувством, порождённым исключительным положением: оно высоко ставило его в моих глазах, я и боялся оскорбить его какимнибудь неуместным замечанием. Впрочем, он тотчас прозрел шаловливую мою мысль, улыбнулся значительно. Мне ничего не нужно было: я, в свою очередь, моргнул ему, и всё было понятно без всяких слов47.
Среди молодой своей команды няня преважно разгуливала с чулком в руках. Мы полюбовались работами, побалагурили и возвратились восвояси. Настало время обеда. Алексей хлопнул пробкой, – начались тосты за Русь, за Лицей, за отсутствующих друзей и за нас. Незаметно полетела в потолок и другая пробка; попотчевали искромётным няню, а всех других хозяйскою наливкой. Всё домашнее население несколько развеселилось; кругом нас стало пошумнее, праздновали наше свидание.
Я привёз Пушкину в подарок «Горе от ума»; он был доволен этою тогда рукописною комедией, до того ему вовсе почти незнакомою. После обеда, за чашкою кофе, он начал читать её вслух; но опять жаль, что не припомню теперь метких его замечаний, которые впрочем потом частию получились в печати.
Среди этого чтения кто-то подъехал к крыльцу. Пушкин взглянул в окно, как будто смутился и торопливо раскрыл лежавшую на столе Четью-Минею. Заметив его смущение и не подозревая причины, я спросил его: что это значит? Не успел он отвечать, как вошёл в комнату низенький рыжебородый монах и рекомендовался мне настоятелем соседнего монастыря.
Я подошёл под благословение. Пушкин – тоже, прося его сесть. Монах начал извинением, что, может быть, помешал, но потом сказал, что, узнавши мою фамилию, ожидал увидеть знакомого ему П. С. Пущина, уроженца великолуцкого, которого очень давно не видал. Ясно было, что настоятелю донесли о моём приезде и что монах хитрил.
Хотя посещение было вовсе некстати, но я всё-таки хотел faire bonne mine a mauvais jeu48 и старался уверить его в противном: объяснил, что я Пущин такой-то, лицейский товарищ хозяина, а что генерал Пущин, его знакомый, командует бригадой в Кишинёве, где я в 1820 году с ним встречался. Разговор завязался о том, о сём. Между тем подали чай. Пушкин спросил рому, до которого, видно, монах был охотник. Он выпил два стакана чаю, не забывая о роме, и после этого начал прощаться, извиняясь снова, что прервал нашу товарищескую беседу.
Я рад был, что мы избавились (от) этого гостя, но мне неловко было за Пушкина: он, как школьник, присмирел при появлении настоятеля. Я ему высказал свою досаду, что накликал это посещение.
– Перестань, любезный друг! Ведь он и без того бывает у меня, я поручен его наблюдению. Что говорить об этом вздоре.
Тут Пушкин, как ни в чём не бывало, продолжал читать комедию; я с необыкновенным удовольствием слушал это выразительное и исполненное жизни чтение, довольный тем, что мне удалось доставить ему такое высокое наслаждение.
Потом он мне прочёл кое-что своё, большею частью в отрывках, которые впоследствии вошли в замечательных его пиес; продиктовал начало из поэмы «Цыгане» для «Полярной звезды» и просил, обнявши крепко Рылеева, благодарить за его патриотические «Думы».
Время не стояло. К несчастию, вдруг запахло угаром. У меня собачье чутьё, и голова моя не выносит угара. Тотчас же я отправился узнавать, откуда эта беда, неожиданная в такую пору дня. Вышло, что няня, воображая, что я останусь погостить, велела в других комнатах затопить печи, которые с самого начала зимы не топились. Когда закрыли трубы – хоть беги из дому! Я тотчас распорядился за беззаботного сына в отцовском доме: велел открыть трубы, запер на замок дверь в затопленные комнаты, притворил и нашу дверь, а форточку открыл.
Всё это неприятно на меня подействовало не только в физическом, но и в нравственном отношении. «Как, – подумал я, – хоть в этом не успокоить его, как не устроить так, чтоб ему, бедному поэту, было где подвигаться в зимнее ненастье!» В зале был биллиард; это могло бы служить для него развлеченьем. В порыве досады я даже упрекнул няню, зачем она не велит отапливать всего дома. Видно, однако, моё ворчанье имело некоторое действие, потому что после моего посещения перестали экономить дровами. Г-н Анненков в биографии Пушкина говорит, что он один иногда играл в два шара на биллиарде. Ведь не летом же этим он забавлялся, находя приволье на божьем воздухе, среди полей и лесов, которые любил с детства. Я не мог познакомиться с местностью Михайловского, так живо им воспетой: она тогда была закутана снегом.
Между тем время шло за полночь. Нам подали закусить. На прощанье хлопнула третья пробка. Мы крепко обнялись в надежде, может быть, скоро свидеться в Москве. Шаткая эта надежда облегчила расставанье после так отрадно промелькнувшего дня. Ямщик уже запряг лошадей, колоколец брякал у крыльца, на часах ударило три. Мы ещё чокнулись стаканами, но грустно пилось, как будто чувствовалось, что последний раз вместе пьём на вечную разлуку! Молча я набросил на плечи шубу и убежал в сани. Пушкин ещё что-то говорил мне вслед; ничего не слыша, я глядел на него: он остановился на крыльце со свечой в руке. Кони рванули под гору. Послышалось: «Прощай, друг!» Двери скрипнули за мною…
34
Говоря о «либерализме» Пушкина, автор имеет в виду оппозиционность к самодержавию и свободомыслие, рассматривая слово «либерализм» не в его собственном политическом значении, а как производное от французского «liberte» – свобода. (Примітка упорядників збірника.)
35
Николай Иванович Тургенев (1789 – 1871) – брат друга А. С. Пушкина, камергера А. И. Тургенева; экономист, политический деятель, декабрист, с 1824 г. эмигрант, заочно присужденный к смертной казни. (А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. С. 596.)
36
А. П. Куницын (1782 – 1840) – прогрессивный лицейский профессор нравственных и политических наук, ценимый Пушкиным и декабристами. (Там само.)
37
Г-жа Сталь, «Взгляд на французскую революцию». (Там само. С. 71.)
38
Мне ничего лучшего не остаётся, как разорваться на части для восстановления репутации моего милого сына (франц.). (А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. С. 72.)
39
Пушкин выехал из Петербурга в екатеринославскую ссылку 6 мая 1820 года. Пожар в Лицее произошёл 12 мая. (А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. С. 526.)
40
Ах, это по-рыцарски (франц.).
41
Е. А. Энгельгардт (1775 – 1862) – директор Лицея в 1816 – 1822 гг.
42
Н. Б. Юсупов (1751 – 1831) – князь, дипломат, меценат.
43
В. П. Зубков (1799 – 1862) – советник Московской гражданской палаты, причастный к декабризму.
44
Этот портрет, помещённый в альманахе «Северные цветы» за 1828 год и в 1 томе Собрания сочинений Пушкина под редакцией В. В. Анненкова (1855) принадлежит кисти О. А. Кипренского и гравирован Н. И. Уткиным. (А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. С. 528 – 529.)
45
Внезапно (франц.).
46
В. Ф. Раевский (1795 – 1872) – видный декабрист, поэт, майор 32-го егерского полка в Кишинёве. (А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. С. 592.)
47
По мнению ряда биографов Пушкина речь идёт об Ольге Калашниковой, «крепостной любви Пушкина». (Там само. С. 529.)
48
Делать весёлую мину при плохой игре (франц.).