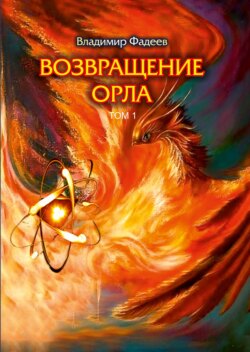Читать книгу Возвращение Орла. Том 1 - Владимир Алексеевич Фадеев - Страница 24
13 мая 1988 года, пятница
Флягина коса
Теперь поплыли
ОглавлениеМедленное движение лодки
сквозь ночь напоминало проход
связной мысли сквозь подсознание.
И. Бродский, «Набережная неисцелимых»
Шура перелез через борт, на плоском дне стоять было удобно, чёлн напомнил ему кофейную турку с широким дном и узким горлом, только не круглую, а длинную. Вырублен был из нескольких плах, изящно подогнанных и скреплённых скобами. Первый раз в такой посудине, а как будто знакомо.
Выплыли на реку.
– А погрести дашь?
– Что не дать? Греби, – усмехнулся старик и уступил весло и место на корме.
Байдарочник собрался показать класс и… чёлн закрутился челноком, не успевал перебрасывать весло с одного борта на другой, а всё одно плыли вбок да поперёк. Через пять минут устал бороться, безвольно опустил весло, ожидая комментариев от старика, но тот только улыбался. Почему-то болели плечи, словно он полдня работал лопатой.
– Погрёб? – спросил просто, как побаловавшемуся взрослой вещью несмышлёному дитяте, так просто, что Шура, без какого-либо намёка на обиду, раз и навсегда понял, кто он, спортсмен-водник, физик-ядерщик, по отношению к этому речному духу. Тот взял весло, и через два его незаметных гребка чёлн набрал крейсерскую скорость, Шуре даже показалось, что они не плывут, а, не касаясь воды, летят, настолько стремителен и плавен был ход у дубовой турки.
– В Прорву сходим, курики на реку переставить надо, не сегодня-завтра лещ выйдет, – сказал опять спокойно, даже как-то обыденно, словно они давным-давно уже тут плавают вдвоём, и насчёт Прорвы не советовался, не спрашивал, мол, поплывёшь ли со мной, а как бы необязательно вслух озвучивал, куда они поплывут в этот, сотый или даже тысячный раз вдвоём. – Ты пока воду посмотри, но только будто на дно, вглубь.
Шура даже не спрашивал, что нужно рассмотреть… Нет, не рыбы выплыли навстречу взгляду – лес! Огромные дубы росли вверх ногами, то есть вниз кроной, Шура перегнулся через борт погладить зелёный ковер травы, но роща исчезла, вместо неё вниз мачтами беззвучно плыл корабль…
– Не свались, – засмеялся по-детски Старик.
Видение исчезло.
По узкой протоке чёлн вплыл (вошёл!) в стоячую воду старицы, чёрная, маслянистая, в голубых блёстках ранних звёзд она по-прежнему не издавала ни звука, стариковское весло, казалось, было с ней одной плоти – ни всплеска, ни булька.
«Контрабандистом ему хорошо бы, – промелькнуло у Шуры, – по рыбам, по звёздам…»
Меж тем стемнело, больше от склонившихся с обеих сторон в Прорву старых деревьев, сказочный вечер превратился в сказку-ночь. Воздух не просто посвежел, а, казалось, погустел от черёмухового елея, перемешанного с освобождающимся духом воды, с комариным звоном и гудом майских жуков; на берега, маскируясь под тени кустов, вышли невиданные звери и твари и с удивлением смотрели на него, незваного, но желанного – он так чувствовал! – гостя. Вода, тугая и тёплая, была самой тайной, которой не терпится открыться и вывернуться уже живым чешуйчатым чудом. Не доходя метров трёх до фантазийно торчащей коряги, старик подтабанил, перевернул весло и верхней поперечинкой, как кошкой, с первого раза зацепил верёвку. Шура привстал помочь, но старик словно этого не заметил. Положил в чёлн привязанный к одному концу верёвки кирпич и стал выбирать другой конец, одновременно подрабатывая веслом, теперь за маленькую верёвочную петельку надетым на вбитый в борт гвоздик. Показалась сетка, высотой не больше метра – крыло, за ним полудуги ловушки, пять или шесть, опять верёвка и второй груз. Работа для двоих в резиновой лодке, отметил для себя Шура. Пусто. Старик чуть хмыкнул, как бы удивился, как будто ему твёрдо пообещали, или он сам для себя оставил в курике рыбью заначку, а – пусто. Так же тихо, без единого лишнего движения поднял второй курик, в нём было два рака, старик хмыкнул ещё досадливей, с насмешливой укоризной глянул на Шуру, словно это он перед этим почистил ловушки, выдрал раков из тенет и бросил в воду (Шура даже всплеснул руками – раки!). В третьем была-таки рыба: карась в ладонь, щучка в локоть и ещё что-то тёмное, то ли большой ротан, то ли линёк.
– Переставим на реку…
Поплыли обратно. Шура вернулся из очарования в себя и теперь с детско-рыбацкой жадностью подумывал: вот бы у него щучку выпросить! Но молчал.
Когда обратно проплывали мимо косы, старик, как будто забрал Шуру не с пустого песка, а от кинотеатра «Художественный», спросил, кивнув на берег:
– Что тут смотрел, что увидел?
Шура уже и рот открыл: переполняло же увиденное! – но что? Что? Свет и цвет какого-то несбыточного счастья? Или промельк памяти о похожем чувстве в детстве?
– Бренделя увидел, – только и сказал, потому что обо всём другом и сказать-то было невозможно.
– Бренделя? – уважительно переспросил старик, словно и сам знал его не хуже Шуры. – Это хорошо, хорошо.
Друг детства Генка Бренделев, невысокий крепышок и умница, как-то неброско, но был во всём первым. Лучше всех гонял мяч, виртуозно играл на баяне, и, конечно, первым в округе освоил супермодную тогда шестиструнную гитару, причём не три подъездные аккорда, а ещё и щипал по нотам; в хоккей был лучшим не только потому, что занимался до этого фигурным катанием, но и щелчок у него был такой силы, что за экспромтными дворовыми воротами ломались штакетины забора, за городскую команду он играл со старшим возрастом; то, что был лучший грибник и лучший рыбак, так это вроде бы само собой, на драку с соседним двором шёл с ним, Шуркой, без сопливых рассуждений и всегда махался от души… но при этом был отличником, бессменно висел на школьной доске почёта. И было у него ещё настоящее хобби – радиотехника, в его комнате всегда пахло канифолью, а мыльницы потрескивали «подмосковными вечерами». Из-за этого увлечения в девятый класс он не пошёл, а поступил в радиотехнический техникум… и за год преобразился. «Брендель сбрендил…» – качали головами матери его друзей, что уж говорить про родную… От пьяной смерти в канаве его спасла армия (с третьего курса из техникума его отчислили) – три года он плавал по северным морям, а демобилизовавшись, попал в ту же канаву: ни паяльника, ни коньков, ни баяна, только стакан. «Куда что делось?» – гадали все. А на самом деле – куда?
Старику же этого всего не расскажешь, зачем? А тот переспросил:
– Бренделя-мореплавателя?
– Мореплавателя, – вздохнул Шура, – уплыл и никак не вернётся.
Ставили недалеко от косы, на травяной мели. Пока ставили, Шура, где-то на другом краешке очарованности, всё маялся: попросить щучку?.. Не попросить? Попросить?
Не так много он и видел-ловил в своей жизни рыбы, но щука в его сознании была какой-то особенной рыбой-нерыбой, существом не промысла, а сказки, недоступной ему магии. Может, от сказки про Емелю? Ведь не карася он зачерпнул ведром, не судака, не стерлядь, а щуку, потому что щука – не рыба, щука – знак, знак оттуда, а в воде она обитает только потому, что настоящее иномирье нам недоступно, вот и приходится ей с карасями…
Показалось, что старик услышал его жадность, стало стыдно, хорошо ещё – темновато, не видно красных ушей. Он поднял вверх не разгибающийся до прямого палец, вот-вот станет читать мораль, но молчал; оказалось – слушал, слушал совершенно для Шуры неслышимое.
– Вернёмся-ко, – подплыли к курику, поставленному первым. В нём уже было два леща, по меркам не рыбака Шуры просто огромных, он опять утратил чувство сиюминутности, как будто в это же самое мгновенье был ещё и кем-то другим, имевшим к таким лещам прямое, чуть ли не родственное касательство.
– Тебя как звать-то?
– Сашкой.
– А я, значит, Сергей Иванович. На-тко, угости своих московских… – И положил обоих лещей в овощную сетку – в компанию карасю и щучке…
По дороге от берега до «Хилтона» – в темноте! – светло вспоминался весь прошедший вечер.
«Что за дивный старик! Надо будет его завтра разыскать, отблагодарить, угостить спиртиком, пока есть… А рука-то у него!.. И какая ходкая лодочка!..». Не мог освободиться (да и не хотел) от недавнего чувства, что знает этого деда давным-давно, так давно, как не знает себя самого; и это было не то фантомное ощущение уже случавшегося с тобой, которое иногда освещает сумрачные туннели прапамяти, а вполне сознательная уверенность: и в лодке они вместе плавали, и рыбу ловили, и – главное! – не раз уже стояли вот так вместе на берегу и провожали за горизонт купающееся солнце, умывались его светом, как будто сладкое вино пили без остановки и не напивались – сколько раз!
А куда же делся белый столб? И что это был за свет? Откуда? Ведь, по всему судя, он простоял пасховым истуканом никак не меньше двух часов! Да! И Генка Бренделев стоял с ним рядом – вспоминали с ним детство, грибное, ягодное – лесное… и жена молодая – он чувствовал её присутствие по запаху духов… кажется «Сигнатюр», они не просто пахли – звучали… или это музыка, плывшая над водой, пахла её духами? Музыка из карманного приёмника «Алмаз», прятавшегося у него-восьмиклассника в нагрудном кармане немодного демисезонного пальто – волшебная, в исполнении ансамбля электромузыкальных инструментов Вячеслава Мещерина… надо же, вспомнил! И ещё запахи, запахи одновременно: самая ранняя весна – оттаявшие пригорки с жёлтыми гвоздиками мать-и-мачехи, хрустящий замёрзшим бельём январь, паутинная одурь грусти бабьего лета… И ещё, ещё! Недавний сон наяву стал вдруг вспоминаться, как проявляется изображение на фотобумаге. Нет, это был не обычный сон, который, наоборот, помнится несколько секунд после пробуждения и быстро, безвозвратно растворяется в белизне утра, этот сон именно проявлялся, причём сначала проявились слои самые близкие, из его нынешней жизни: Брендель, «Сигнатюр»… а вот теперь, через час с лишним, стали проступать события из других его жизней, калейдоскопом разное, но особенно ярко – связанное с этой рекой, даже именно с этим местом на реке. Он плыл на большом деревянном… корабле? Скорее, ладье, нет – струге… Было тревожно и – опять одновременно! – радостно. Вокруг, рядом были друзья… больше – братья, воины. А следом плыл ещё один струг, за ним ещё, и ещё, и ещё – сколько видно до речного поворота, было выложено в долгий ряд невысокими треугольными парусами, казалось, что плывёт по реке гигантский змей с белым гребнем и тысячей боковых плавников-вёсел.
Странно: когда окликнул старик, всё забылось, а теперь проявлялось. Нет, не сон это был и не мираж – он явно находился на головном струге. Гребли в две смены, спокойно, без надрыва. Если змей растягивался слишком, он велел кормщику открытой назад ладонью давать команду: «Легче!», когда река поворачивала на ветер – «Греби!» Что это было? Когда? Плыл на струге, словно навстречу себе самому, стоящему – через тысячу лет – на вот этой самой косе и ждущему свою речную рать. Но, подплывая, не себя он увидел издалека со струга – белая верея подпирала дерюжные тучи! Усмотрел её, как и было обещано, – не подвёл вятичский кощун! – в рано вечереющем, готовом просыпаться первым снегом осеннем небе: тут сила! Хорошо, не поддался ропоту ратных, просивших остановиться раньше, уморились… Да и срок был уговорен: за неделю до грудня (а грудень вот уже – по утрам борта у стругов в куржаке), в осенние деды. Ни раньше ни позже. В иные дни белого знака не узреть, а без знака можно было б и мимо прогрести, а там уже мурома да мещёры, есть ли у них древняя сила? Осенние деды — дни особые, граница с навью узится, пращуров видеть можно, воздать им, а по весне и от них воспринять, щедры дедины в свои травные дни, со всего неба силу соберут и одарят. Издалека узрел, как вырос из-за рыжей каймы береговых вётел белый столб – где и усталость? Не больше тысячи гребков, и вот чаемая стоянка в заветном месте. Оно ли? Струг ткнулся в берег. Не дожидаясь доски-сходни, спрыгнул в холодную воду, выбрел на песок и встал, как вкопанный, взором в тучи. Уставшая дружина терпеливо ждала, струги сгрудились, сушили вёсла. Не торопился, нельзя было ошибиться, белый, свитый из воздусей столб-верея – знак верный, но как бы это не маета многомесячной гребли – сначала вверх по Днепру и притокам, потом волоки и полтысячи вёрст по Оке – его наморочила… не встречает никто, а ведь, коли вещие, должны были увидеть, что подходит…
И вот тут услышал старика:
– Ночь без минуты, ай забылся?
«Встречают!»
Поднятая и резко опущенная рука: «Здесь! Зимуем!», и сразу же восторженный тысячеголосый гул утомлённого войска покатился по реке: «Зи-му-ем!!!»
Плечи не отпускало. Нет, не лопатой он полдня работал – веслом… С этой томящей болью появилось ясное чувство – необходимости воевать за Россию, ибо у неё такая судьба, что за неё всегда надо воевать, она единственная в мироздании живая драгоценность, если перестать за неё воевать, её, а вслед за ней сразу же и весь мир, съедят или выродки изнутри, или попытаются уничтожить извне расплодившиеся в никак не заканчивающейся галактической тени нелюди. Крепкая нужна рука… вот как у этого деда – такая рука удержит.
До конца той командировки везде Шуре чудился белый столб: то белый бакен с длинным отражением на речной глади, то береговой маяк, сигнализирующий судам о повороте реки, то взвившийся вверх пылевой смерчик, то зажатая плотным ивняком черёмуха, то утренний туман, всасываемый холодными губами неба с тёплой реки… «Так с этим белым столбом и Белые Столбы недолго!» – думал он, но едва ступал на береговой песок, душа, словно губка, собирала с воды, травы и песка остатки того белого света и этим уже была довольна.
С тех пор Шура Скурихин, Капитан, во все колхозные выезды в Луховицы останавливался с товарищами исключительно на косе, устраивая здесь на две недели палаточный лагерь.