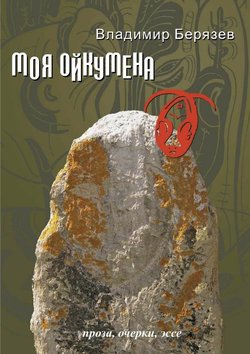Читать книгу Моя ойкумена. Проза, очерки, эссе - Владимир Берязев - Страница 2
Ойкумена Владимира Берязева
ОглавлениеИмя Владимира Берязева современному читателю известно достаточно хорошо. Несмотря на относительную (по житейским меркам) молодость, работает он в литературе уже давно, интересно и плодотворно, и это, пожалуй, один из самых своеобразных и бурно развивающихся российских поэтов.
Родился Владимир Алексеевич Берязев в апреле 1959 года в г. Прокопьевске Кемеровской области. Окончил Новосибирский институт народного хозяйства, а затем и Литературный институт им. А. М. Горького. Работал ревизором-инспектором райфинотдела, газетчиком и радиожурналистом, был редактором популярной в свое время программы Новосибирского радио «Слуховое окно». Несколько лет руководил издательством «Мангазея» и Новосибирской писательской организацией. Был В. Берязев и директором государственного предприятия «Редакция журнала „Сибирские огни“», а позже и главным редактором оного.
А дебютировал В. Берязев на литературном поприще в августе 1982 года по иронии судьбы в подопечном ему долгие годы издании – в журнале «Сибирские огни». Через четыре года Новосибирское книжное издательство выпустило первую книжку его стихов «Окоём». Затем в Новосибирске вышли еще три: «Золотой кол», «Могила великого скифа» и «Посланец».
Едва ли не сразу В. Берязев заявил себя поэтом космогонических ощущений, эпического начала и глубокого исторического взгляда. В этих основных проекциях в дальнейшем и будет развиваться его поэтическое творчество, одной из краеугольных мыслей которого станет мысль о равновеликости мощи природы и человеческого духа. Ну а «безудержная солнечность пространства» послужит В. Берязеву тем незаменимым холстом, на котором под его пером возникнет не одна впечатляющая стихотворная картина.
И прежде всего – картины природы. Впрочем, на традиционные созерцательные описания «трав, деревьев, облаков» вокруг они не очень похожи.
Лирический герой В. Берязева с его космогоническим ощущением бытия даже в знакомом до боли пейзаже «лесостепного распутья» видит единую всего сущего в природе связь. А потому и не чувствует «четких границ между небом, судьбой и радостью, между песней и криком птиц».
Природу В. Берязев пишет, как правило, густыми, резкими и яркими мазками, тяготея к монументальным символам и метафорам, которые тем не менее, несмотря на их «глыбастость», свободно проникают в подсознательные наши глубины.
Но, возносясь в заоблачные выси, играя глобальными образами, поэт в то же время ощущает себя «до самого крайнего нерва», что он «частица земли», которой «лететь, но не улететь». Он вдыхает «сладость сырого утра» чувствует, как «к горлу подошли земные соки и земные силы».
Ему дано услышать «чистейший голос земли».
В то же время немало в его стихах и вполне конкретных – зримо и выпукло выписанных – примет и деталей того или иного состояния природы, которые не только не противоречат поэтическому космогонизму, но помогают лучше понять, как «рождается таинственная связь души с необозримым», постичь «тайную смежность почвы с небом».
И вот что следует отметить: многомерное и многоуровневое мироощущение В. Берязева прекрасно уживается у него с тем особо обостренным поэтическим чутьем, когда «дрожащие кончики пальцев/ чуют тяжесть далеких светил».
Такого рода «светочувствительная» обостренность восприятия определенным образом сказывается и на поэтике: причудливо химеричные зыбкие видения в ряде стихов, рожденные как бы на грани яви и бреда, чем-то напоминают истаивающие при приближении к ним миражи:
Процежен тишиной, рассеян и высок
Дымок рассвета. Вдох…
Как будто и не снилось,
Как тягостно и зло нагрузлой тьмы кусок
Давил, и все росло, и в воздухе носилось
То чувство, где близки и тьма и высота.
Ты грезил – ну, вот-вот, и то, что не бывало,
Свершится. И не сон, не бред, а маета
Металась в темноте, на части разрывала.
Как в женщине, в ночи почуявшей исход,
Когда живот, ожив, уж не удержит плода,
Тебе хотелось жить и вырваться из-под,
За грань удушья тьмы и временного хода.
В кромешности слепой до тошноты душе
Желалось претворить себя – превоплотиться!..
Кстати, способностью к поэтическому перевоплощению В. Берязев тоже не обделен. Лирический его герой предстает то в образе «хищной птицы», то рядового солдата «возле вечного огня», то превращается он «уже в водоворот»… И здесь не искусственные метаморфозы в русле сугубо формальных экспериментов, хотя поискам формы, технике стихосложения В. Берязев тоже уделяет немалое внимание. Здесь – естественное пульсирование той кровеносной образной системы, которая тесно связана с особенностями мироощущения поэта.
Воспринимая мир как единое неразрывное целое, лирический герой В. Берязева ключ к разгадке сути мироздания, помня «Пушкина добрый урок», ищет в душе человеческой. В постижении мира взор В. Берязева то и дело устремляется в глубины Времени. И не из одного лишь желания вдохнуть пыль веков.
Там, в многослойной толще эпох, пытается найти он ответы на некоторые сегодняшние проблемы, оказывающиеся на поверку вечными и непреходящими вопросами человеческого бытия. Как, например, этот вот: «В чем наша участь? / В том ли, что бьём колеи, / Веря и мучась?»
Чья участь? Да извечная российская наша геополитическая участь. Участь двуглавого орла, смотрящего в противоположные стороны света: Запад и Восток, в Европу и в Азию. Участь буфера, щита, этакой печи, переплавляющей обычаи, верования, культуры и менталитет разных народов. И не случайно, когда В. Берязев обращается к седой старине, в произведениях его возникают причудливые переплетения как мифологий разных континентов, так и реалий разных исторических эпох. Нагляднее всего, пожалуй, проявилось это в цикле стихотворений В. Берязева о Таврии:
…Мессершмиты, как осы, поют над дворцом Митридата,
И закатное золото гроздьями ткет виноград.
Пыль Европы и Азии смешана с кровью солдата:
Обелиски и кости на тысячи стадий назад.
…
Над лучом маяка полыхают небес аксамиты,
Мир навылет сквозит – грохот гусениц, топот подков.
Митридат упадает на меч…
И горят Мессершмиты…
В. Берязев, безусловно, не первый и далеко не единственный, кто через прошлое пытается что-то уяснить в настоящем. У русской поэзии в этом отношении существуют глубокие и прочные традиции, восходящие к фольклору и древней русской словесности, к «Слову о полку Игореве», в частности. А можно вспомнить и более по времени близкое: Пушкин, Блок, или, скажем, П. Васильев с Л. Мартыновым. Каждый из них в той или иной степени оказал свое воздействие на поэта Берязева. А с некоторыми (Блоком, прежде всего) ведет он своеобразную полемическую перекличку. Блок, как помним, горячо поддерживал идею особого мирового назначения России и верил в ее обновляющую революционную миссию.
А вот В. Берязев в стихотворении «Могила великогоскифа» миссию эту увидел уже иным, скорректированным трагическим опытом современной истории, взглядом.
Последний русский умер и зарыт.
А кем зарыт и как все это было —
Спросите у безродного дебила…
Придите все! Отныне путь открыт.
И вечный горб рассыпал позвонки.
И прочный герб распался на колосья.
От праха отреклись ученики
Под петушиных горл многоголосье.
Идите все и на, и за Урал!
Живой душой уже не залатаем
Простор, что нас воззвавши, нас попрал —
Пусть Дойче-банк братается с Китаем…
Оплачь наш опыт, старый человек.
Не обойди гигантскую могилу!
России нет… Лишь кружит многокрыло,
Как наши души, беспокойный снег.
России нет…
С «Могилой великого скифа» созвучно и стихотворение «Колпашевский яр», посвященное жертвам классовой борьбы.
Тени ледникового распада,
Крестоносцы классовой борьбы
Потекли из глины, тлена, ада…
Немо и далеко вдоль Оби
Плыли трупы…
Прошлое поплыло…
…
Волны века вымыли такое,
Что кренится русский материк.
Зато сегодня явный крен в другую сторону:
Товара нет и деньги отцвели.
Нет капитала. Нет рабочей силы.
И Бога нет.
И даже нет России…
И, задаваясь сакраментальным пушкинским вопросом «куда ж нам плыть?», В. Берязев с горькой усмешкой отвечает: «Похоже, в Сомали». Впрочем, и на западном направлении цивилизации В. Берязев Россию не видит. Зато дух Азии веками витает на ее просторах. Духом Азии пронизана и поэзия В. Берязева. Он ощущается как в типично азиатских пейзажах, коих немало найдется в его стихах, в характерных приметах и чертах, так и в различного рода историко-географических названиях, упоминаниях о великих деятелях культур и религий Востока, в изобилии рассыпанных по стихам В. Берязева.
А персонифицируется «дух Азии» у В. Берязева в фигуре Чингисхана («Чингиса дух меж нами жив…»). В великом древнем завоевателе поэт увидел некий объединяющий и цементирующий народы и культуры символ. Что, собственно, и постарался выразить в самом, пожалуй, своем объемном и значительном на сегодняшний день произведении – поэтическом сказании «Знамя Чингиса».
В содержательном плане – это рассказ о рождении, детстве, юности Тэмуджина (настоящее имя Чингисхана), о становлении личности великого воина, одержимого целью создать«неохватную Державу», о большой любви юноши Тэмуджина и девушки Бортэ, о ее похищении живущими у Байкала меркитам и и дальнейшем освобождении Тэмуджином своей возлюбленной в историческом бою, который положил начало знаменитым походам Чингисхана.
Чингисхан предстает в поэме В. Берязева как «Держатель мира», «величием дел» своих покоривший «народы и мненья», создавший и претворивший в жизнь суровый, но справедливый «закон Степи» («Ясу») – закон монолитного и могучего государства, краеугольную основу которогоб составляет триединство: «Честь, Хан и Держава»:
Закон этот будет для всех и для вся,
Как белый день, ясен.
Охватит мечом то, что делать нельзя,
Хаганова Яса.
Можно, конечно, спорить об исторической адекватности описанных в поэме событий и персонажей – и, прежде всего, главного ее героя, представшего перед читателем образом скорее мифологическо-символическим и романтическим, нежели строго историческим и реалистическим. Можно оспаривать и точку зрения автора, утверждающего, что «орда» – прекрасно организованное и крепко сплоченное узами морально-нравственных принципов и высших общественных интересов единство – своего рода образец прочной государственности. Следует, однако, учесть, что В. Берязев предлагает нам не исторический слепок, а свое художническое видение далекой эпохи, не строго документированное жизнеописание, а соответствующий собственному поэтическому ощущению образ-символзнамя. Знамя чего? Надо полагать – возрождения из социальных руин и объединения вновь в великую Державу. А это сегодня, между прочим, как и во времена Чингисхана, очень и очень актуально.
Впрочем, варианты прочтения поэмы «Знамя Чингиса» могут быть и другие. И хорошо. Значит есть над чем в ней подумать, есть простор для читательских фантазий и размышлений.
Но привлекает поэма не только своим идейным и социальным наполнением. Как произведение художественное, поэтическое она тоже очень своеобразна и оригинальна. Наверное, как ни в каком другом своем произведении, В. Берязев раскрылся здесь именно как художник, обладающий обширным арсеналом изобразительных средств и возможностей.
По своим поэтике и стилистике «Знамя Чингиса» в целом восходит к национальным сибирским героическим эпосам (алтайским, шорским, хакасским, якутским, бурятским и др.), следует их фольклорно-сказовым традициям. Следует, но не копирует, о чем говорят и более разнообразный, лишенный обычной сказовой монотонности, интонационно-ритмический строй поэмы, и отличающаяся от фольклорных источников сюжетная организованность материала, и некоторые другие моменты, доказывающие, что, несмотря на определенную стилизацию, перед нами все-таки произведение современной литературы.
Вместе с тем использование фольклорных мотивов, многочисленных этнографических подробностей да и вообще сказового опыта помогло В. Берязеву наполнить поэму «Знамя Чингиса» неповторимым колоритом и тем самым «духом Азии», который не в состоянии истребить ни века, ни пространства.
«Знамя Чингиса» – первый серьезный (и удачный) опыт работы В. Берязева в жанре эпической поэмы. Первый, но не единственный. Появятся и другие поэмы – в частности, «Поле Пелагеи».
О чем она? О самом, наверное, в жизни человеческой главном: говоря строкой берязевской поэмы – «о простом и неизбывном чуде Рода». А род – это родня, родной дом, родное пространство, народ, родина – т.е. восходящая к горним высям Духа цепь важнейших для человека нравственных понятий:
И не стать уже ни опытней, ни старше,
Не удобрить, не посеять, не отцвесть,
Коль не ведаешь кровей и вешек Рода…
А окликнул тебя атом дорогой,
И смиряется звериная порода,
Распускается пространство под рукой,
Распускается, как горная фиалка,
Словно царство из пасхального яйца,
И уже и жизни прожитой не жалко,
Знаешь точно – нет у ней конца.
Таким «атомом дорогим» становится для лирического героя поэмы девятилетняя девочка Пелагея с удивительной силы и чистоты голосом, пение которой потрясло его душу, вызвав лавину воспоминаний и ассоциаций, связанных как с собственным прошлым, так и с временами более древними.
Поэма «Пелагея» невелика, но очень емка и насыщена. По сути это – философско-поэтическая притча. В каких-то моментах (например, в размышлениях о Роде как стержневом начале человеческого бытия) «Пелагея» перекликается и со «Знаменем Чингиса», и с рядом других произведений В. Берязева.
В. Берязев продолжает целеустремленно осваивать эпический жанр. Недавно им написана поэма «Псковский десант», посвященная героям-десантникам, погибшим в Чечне. Продолжает он и работу над романом в стихах «Могота», первые части которого уже опубликованы в журнале «Сибирские огни».
В. Берязев известен не только как поэт, но и как публицист, автор очерков, эссе.
Впрочем, употреблять в данном случае оборот «не только как» будет, наверное, не совсем точно и корректно, ибо В. Берязев, если говорить в целом о его творческом облике, – отнюдь не двуликий Янус с диаметрально противоположными физиономиями. И стихи, и проза его – это две стороны одной медали, одного художнического явления, два крыла единого живого творческого тела. Они то и дело пересекаются и взаимопроникают, оставаясь в русле единого художественного потока: стихи время от времени врываются в прозаический текст, привнося в него дополнительную эмоциональную струю, но и в них, как выше отмечалось, нередки и отчетливый публицистический пафос, и социальная заостренность, больше свойственные прозе, что, однако, не мешает оставаться им в «стойле Пегаса». В свою очередь, и ритм, и образность, и стилистика очерков и эссе В. Берязева говорят о том, что это – проза поэта.
Обычно, как известно, поэтов «к суровой прозе» клонят года. В. Берязева к такого рода пиитам, вынужденным по причине поэтической импотенции менять творческую квалификацию, не отнесешь. Во-первых, как говорилось, потому что он продолжает активную стихотворческую деятельность. А, во-вторых, – с младых ногтей поэзия и проза у него идут бок о бок. Более того, бывали нередко случаи, когда одна и та же тема, один и тот же материал находил отражение и в поэтической, и в прозаической форме. Так, к примеру, поездка В. Берязева в Могочинский монастырь на севере Томской области закончилась не только написанием очерка о монахах этой обители, но еще и дала толчок к созданию масштабного поэтического творения – романа в стихах «Могота».
Что же являет собой проза поэта В. Берязева?
«Путешествуйте, путешествуете!
Человек должен перемещаться в пространстве для того, чтобы встретиться с самим собой. Человек должен ехать туда, где его ждет другой человек – пусть очень непохожий на него, но близкий. Любовь и творчество – не что иное, как тоска пространства, некий симфонический сквозняк души перед чудом земли и величием звездного купола».
Так начинается один из очерков прозаического тома В. Берязева
(«Калбакташ – место духа»). И этот зачин настраивает читателя на определенную волну – волну путешествий. Вот и подзаголовок очерка «Моя Ойкумена» – «Путешествие в четыре стороны света» это подтверждает.
Про «четыре стороны света» – если и преувеличение, то небольшое. География путешествий, описанных автором, действительно весьма обширна и разнообразна. Это и Горный Алтай, и Хакасия, и Среднее Приобье, и Бараба, и Германия, и США…
Но дело не в географии как таковой. По признанию В. Берязева, ему вообще «для жизни вполне хватит вотчины радиусом в тысячу верст – это и есть Сибирь, – земля настолько обширная и разнообразная, что множество уголков ее можно открывать для себя бесконечно. Что, собственно, автор в своих очерках и делает. Даже там, где рассказывает о своих поездках в далекие от Сибири – в Америку, скажем, или Саксонию.
Но открываются не только неведомые писателю земные уголки. Он и себя самого в таких путешествиях как бы заново открывает, и на все остальное вокруг начинает другими глазами смотреть. Поэтому перед нами не просто путевые заметки, каковыми они по жанру и являются, а некое своеобразное лирико-философское постижение бесконечно расширяющегося пространства и соотнесение с ним человеческого бытия. То есть налицо уже знакомый нам по стихотворным произведениям В. Берязева космогонизм, который сам поэт называет неким «симфоническим сквозняком».
Хотя понимать это определение можно и несколько иначе: например, как полифонию ощущений, рождаемых бесконечным в своих проявлениях «чудом земли».
А ощущения владеют В. Берязевым самые разные. Но, в первую очередь, наверное, все-таки – восторг. Священный, трепетный, порой доходивший прямо-таки до религиозного экстаза восторг перед красотой, величием и мощью природы, перед ее подчас чуть ли не мистической загадочностью. В этом нетрудно убедиться, прочитав очерк «Моя Ойкумена», давший название всему прозаическому тому. Здесь читатель встретит немало замечательных пейзажей Горного Алтая, Барабы, Хакасии… Чего стоит хотя бы картина грозы над Барабинскими озерами (существует, кстати, и стихотворный вариант этого описания):
«Сначала вдруг исчезло солнце.
Вся южная сторона неба вдоль горизонта принялась темнеть, наливаясь свирепым фиолетом, над образовавшимся темным фронтом как бы сами собой возникали новые дымчато-белесые тучи и тут же поглощались валом наступающей стихии.
Стало совсем тихо. Картина разворачивалась словно, в немом кино. Тьма накатывала с размахом, далеко охватив и восток и запад, так, словно вырывалась из причудливых миров Толкиена, так, словно по воле грозного кайчи, ожили силы алтайского эпоса Маадай Кара…
Грозовой фронт вступил в соприкосновение с ближайшими, доселе спокойными, слоями воды, он как бы слизал светлую гладь и привел в движение растительность по берегам. Стал накрапывать дождь…
Чернота, уже пыталась досягнуть до зенита. Фиолетокудрое воинство, подобно полчищам Дария, выпускало перед собой серые стремительные стрелы перистых туч. Эти стрелы, накрыв нас тенью, уже смыкались в сплошной покров, но и он был разодран в клочья сухим треском электрического разряда, который, словно камень, пущенный из пращи, сначала шелестел, шкворчал, рикошетил, и, наконец, словно тупое гулкое бревно, ударил в землю прямо перед нами, ослепляя, сотрясая до самого снования, почти лишая сознания.
Полил ливень. И наступила ночь».
Этот фрагмент может служить еще и ярким примером прозы поэта – сочной, красочной, изощренно образной, поэта, к тому же, истинно эпического мироощущения.
Но не один лишь мистический восторг, конечно, владеет автором «Моей Ойкумены». Он многое вокруг зорко подмечает и цепко схватывает своим художническим взглядом. Его наблюдения настолько же точны, насколько и иной раз неожиданны. Он успевает увидеть массу самых разных деталей, подробностей, штришков, совершая свои путешествия. Но он – не бесстрастный фиксатор-описатель, не «физиологический» очеркист; осмысливая увиденное, он предлагает свое представление мира, творит собственную его мифологию.
Мифологическое мироощущение, надо заметить, вообще очень характерная черта В. Берязева. Хорошо просматривается оно и в его прозе. Во всяком случае, мифологические образы и ассоциации в очерках и эссе В. Берязева – гости нередкие.
Немалое влияние на стилистику и поэтику берязевской прозы оказывают религиозные ощущения автора. В них нет канонической чистоты какого-то одного верования. Язычество, христианство, восточные религии… Отголоски и того, и другого, и третьего слышны в очерках и эссе В. Берязева. Но здесь нет бездумной начетнической эклектики, Здесь скорее – стык. Потому хотя бы, что Сибирь – Ойкумена нашего автора – всегда располагалась на стыке цивилизаций, культур и религий. Правда, сам В. Берязев, как подтверждает ряд мест в его «писаниях» (к примеру, рассказ о Могочинском монастыре), человек все-таки православных взглядов.
Мы уже говорили, что в очерках и эссе В. Берязева мы имеем дело с прозой поэта. Хотелось бы, правда, уточнить – поэта не просто живоописующего, но и думающего, размышляющего как о состоянии земного нашего существования, так и о проблемах и путях развития литературы, искусства, культуры. С особенной наглядностью последнее проявляется в очерках В. Берязева, посвященных сибирским художникам («Динарий Кесаря», «Духовидец Сергей Дыков», «Братья Меньшиковы», «Николай Рыбаков»), а также знаменитому алтайскому сказителю Николаю Калкину и поэту Александру Плитченко. Кстати, эти материалы в определенной мере можно тоже считать и частью, и результатом берязевских путешествий. Но в пространстве, уже не столько географическом, сколько в духовном и культурном.
Наблюдениями и размышлениями о нашей жизни, культуре, духовности, о происходящих социальных переменах полны и «Сумасбродные мысли о выборе веры», которыми завершается прозаический том В. Берязева.
Под верой здесь подразумевается не только и не столько религиозный или социальный аспект, сколько личностная ориентация в бурно меняющемся мире. Это тем более так, если учесть, что данные заметки заканчиваются 93-м, весьма трагическим и по-своему переломным в жизни российского общества годом.
«Сумасбродные мысли о выборе веры» начинали писаться на рубеже 90-х годов, и сегодня, десятилетие спустя, их можно рассматривать как еще одно путешествие автора – путешествие в недавнее прошлое, своеобразным художественным документом которого они и является.
В. Берязев назвал «Сумасбродные мысли о выборе веры» книгойпотоком. Она и в самом деле напоминает с первого взгляда композиционно не организованный, спонтанный поток разнородных мыслей и впечатлений. Но при более внимательном чтении видишь, что поток этот – не хаос, а органичная художественная масса, отдельные молекулы-фрагменты которой сцеплены прочно творческой личностью самого автора, его мировос-приятием.
Впрочем, вышесказанное можно отнести вообще ко всему двухтомнику В. Берязева. Разножанровые и разнохарактерные произведения, его составляющие, в некое художественное целое объединяет яркий и самобытный талант их творца, который, будем надеяться, пленит еще многих и многих читателей, знающих толк в настоящей литературе.
Алексей ГОРШЕНИН