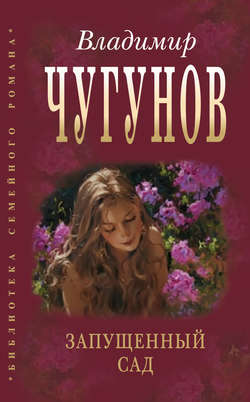Читать книгу Запущенный сад (сборник) - Владимир Чугунов - Страница 16
Школа
1
ОглавлениеА всё началось с телефонного звонка. В понедельник позвонил Митя, бывший одноклассник, друг детства, и сообщил, что двадцать третьего апреля, в пятницу, будет отмечаться семидесятилетие школы, которую мы окончили тридцать девять лет назад, соберутся выпускники всех лет, хорошо бы увидеться.
Ни на одном из прежних юбилеев я не был, казалось бы, всё и вся забыл, а тут и засвербило, и потянуло на воспоминания, просто спасу нет, тянет и тянет, да ещё с такими подробностями, подумать только, столько лет пошло, а разволновался как школьник.
Накануне пятницы объявили штормовое предупреждение, и под утро разразилась самая настоящая буря. За окном сверкало, гремело и лило как из ведра, шиферное железо на крыше гаража ходило ходуном, полоскало по ветру космы берёз, переломило надвое липу у соседей напротив, и она чуть было не легла на электрические провода, хотя свет и так потух.
И по мере того как за окном разыгрывалась буря, во мне самом откуда-то из самого «далёка» подымалась буря.
Я лежал без сна, с открытыми глазами, и временами даже не слышал, что творилось вокруг.
Наконец, не выдержал, поднялся, отыскал в книжном шкафу среди кип потрёпанных журналов старый фотоальбом и убрался на кухню. Школьных фотографий оказалось немного. Первый, второй, седьмой классы, окончание десятого, последний звонок и выпускной вечер – не густо. И почти на всех снимках – наша первая учительница Анна Ивановна. Когда задают вопрос, за что мы любим первую учительницу, обыкновенно отвечают, за то, мол, что была она такая внимательная, такая добрая, такая отзывчивая, и всё это – то, да не то: мы любим первую учительницу за то, что она первая.
Интересно, жива ли, и если жива, сколько ей теперь – восемьдесят два-три?
На фотографии первого класса, сделанной на фоне школьного сада, выражения лиц у большинства хмурые («домой хочу-у», «где мама?»), у некоторых гримасы, и только двое на шутку фотографа улыбнулись. Девочки в белых фартуках, мы в гимназической форме с белыми воротничками, без фуражек. Сосчитал – тридцать девять учеников. Вот это класс!
Из первых лет учёбы помню лишь отдельные эпизоды. И в первую очередь – прописи в букваре, такими они казались необыкновенными, словно написанные каким-то волшебником. Даже у Анны Ивановны, когда писала задание в наших тетрадях, такими великолепными они не получались. У нас и подавно, хотя были, наверное, и пятёрки в тетрадях самых прилежных учениц. Из мальчиков, по-моему, никто не блистал в чистописании.
Парты тогда были не прямыми и не серыми, а наклонными и чёрными, с откидывающимися низами. Прямой была только верхняя узкая доска с двумя утопленными чернильницами-проливайками, а были ещё – непроливайки, в основном домашние, и если такую чернильницу уронить, содержимое не проливались. В те же, что находились на партах, дежурные перед уроками наливали из бутылок чернила. За ночь они, как правило, высыхали, и хотя были фиолетовыми, усыхая, отсвечивали болотной зеленью. Для ручек и карандашей рядом с чернильницами были выдолблены овальные углубления.
Во всех тетрадях имелись красные промокашки, из-за клякс быстро терявшие свою первозданную красоту. А вот бумага была отвратительная, серая, шершавая, постоянно цепляющаяся за железное перо, а уж если примет кляксу, то обязательно развезёт до форменного безобразия и непременно испортит настроение. Писать такими перьями, да ещё на такой бумаге было настоящей мукой. Стоило неосторожно выйти из нажима, и перо, защепив волокно, все старания сводило на нет. А надо было писать не абы как, а красиво, без клякс и помарок, почему предмет и назывался чистописание.
В старших классах писали авторучками, которые тоже надо было заправлять чернилами и почти каждый день промывать, поскольку, засыхая, чернила не хотели плавно поступать на перо и либо не писали, либо пускали кляксы.
По неискушённости своей дети доверчивы, поэтому до пятого класса были мы как бы на одно лицо: в одинаковой форме, у мальчиков чёлки, у девочек косички с бантиками, сначала прилежно носим октябрятские звёздочки, затем пионерские галстуки, учим одинаковые стихотворения, поём одни песни («Орлёнок, Орлёнок, взмахни опереньем…»), у нас общий идол – Ленин, и, следуя его «святому» завету, мы не лазаем в общественный сад не только за вишней, но даже за китайкой, которую у нас и за яблоки-то не считали.
О космонавтике, по-моему, и говорить не стоит. Кто из нашего поколения ею не бредил, не мечтал стать космонавтом, чтобы полететь на Луну, на которой тогда побывал один Незнайка, или к краснокожим, недоразвитым (а то бы сами давно прилетели) марсианам? И я всё, помнится, недоумевал, как могут они там, на Марсе, жить, когда всё вокруг – вода, трава, листья, цветы, овощи, фрукты – красное, и вдобавок ко всему кровавые у всех зубы и глаза? Нет, не хотел бы я жить на Марсе.
Поскольку тогда мы свято верили, что Бога придумали питекантропы «от страха к грозе», вера в Него представлялась нелепой и смешной, а все её последователи необразованными невеждами. Попадались, правда, среди них люди неглупые – Пушкин, Гоголь, Достоевский, например, – но и они представлялись немножко недотянувшими, поскольку, сами посудите, жили при свечах, ездили на лошадях, ничего не знали про синхрофазотроны…
Помню игру в молодогвардейцев. Штаб находился в бывшем курятнике нашего сарая – метров десять квадратных клетушка с потолком, полом, на который девчата для уюта постелили старенький домотканый половик, а на маленькое оконце повесили занавеску. Мы с ребятами из старых досок сколотили стол, лавку. Из фанерного почтового ящика и медной проволоки соорудили рацию для связи с Москвой. Ульяной Громовой единогласно избрали самую боевую и разговорчивую из нас, Валю Фокееву, а по школьному Кешу, дочь учительницы (не нашей, а на класс старше). Мне за кучерявость досталась роль Олега Кошевого. И вот чего в пику фадеевскому роману мы не могли допустить, так это сбросить себя в шахты, поскольку в отличие от молодогвардейцев не оказалось у нас предателя (никто не захотел быть), а значит, были мы неуловимы, но ради справедливости – не неуязвимы, и всякий раз по возвращении с опасного задания девчата перевязывали наши раненые головы и поили замечательной колодезной водой (раненые же всегда просят пить: «сестра, воды») и кормили чудесным хлебом из глины. Поджигать обычно ходили соседние сараи (немецкие склады с боеприпасами), зато под откос пускали уже настоящие поезда (в километре от штаба проходила железная дорога на Москву), так что ни один вражеский поезд к столице нашей Родины на нашем участке фронта не прорвался. Другие подробности помню смутно. Зато хорошо помню, когда нас выследили, мы ушли в партизаны и в нашем ельнике, куда зимой ходили кататься на лыжах, полдня копали землянку. До мозолей. Но таким это оказалось тяжким занятием, что глубже метровой, полтора на полтора ямы, одолеть нам так и не удалось. И уже ничего не оставалось, как только вернуться к мирной жизни.
В связи с этой историей припоминается инсценировка о войне. В светлом коридоре старой деревянной школы накидали на пол сена и устроили что-то вроде партизанского лагеря. Девчата в раздобытых где-то гимнастёрках и пилотках кружком сидели у декоративного костра, над которым висел котелок, и пели военные песни. Представлялась этакая романтика войны. Мы даже не задумывались о том, что война – это мухи, вьющиеся над смердящими трупами, оторванные ноги и руки, море вшей, грязь, болезни, иначе – такое, что нельзя передать словами, невозможно изобразить, и даже сами фронтовики охотно бежали от пережитых ужасов в романтический вымысел киношных и детских постановочных войн. А если подумать, даже порежь палец, когда разнесёт, ведь белый свет не мил. А тут – пуля, дай Бог, если навылет, а то и засядет, или осколком снаряда срежет кисть руки, разворотит живот, оторвёт ногу на мине, обожжёт до неузнаваемости лицо в горящем танке. Всё это я понял гораздо позже, хотя, может быть, и раньше, глядя на инвалидов Великой Отечественной, догадывался, почему не показывают в кино и не пишут на полотнах ужасов войны. Даже в военной кинохронике их в меру – как демонстрация зверств нацизма. А покажи всё, как есть, ни в кинозале не высидишь, ни дома картину такую не повесишь. Это уже потом, позже появятся выставки с изображением инвалидов Великой Отечественной, сначала голливудское, а затем и наше натуралистическое кино.
Моё поколение ещё застало инвалидов войны, собиравших подаяние в пригородных поездах и на базарах – на каталках, на протезах, с гармонями, балалайками. Потом они куда-то исчезли. Куда именно – никто не знал и вопросом таким не задавался. Ну, исчезли и исчезли. Неумолимое время стирало из памяти ужасы недавней войны, запрещалось (или не смели?) показывать их в кино, изображать на полотнах, описывать в литературе. Короче, запрещался весь тот натурализм, который, подобно помоям, обрушится на неподготовленного зрителя и читателя в девяностые.
По сравнению с другими, были мы, наверное, всё же поколением счастливым, которому достались в удел всего лишь остров Даманский («На Уссури под солнцем тает лёд. / Зима сгустила голубые краски./ Под лёд ушёл семидесятый год /– тех, кто погиб на острове Даманском») да взбунтовавшаяся Чехословакия, младшим братьям пострашнее – Афганистан, детям ещё более отвратительная по причине повального предательства, – Чечня. Что достанется внукам – судя по тому, что происходит сейчас в мире, не могу даже представить.
Ещё припоминаю, как на одном из школьных утренников Кеша прочитала забавное стихотворение, которое, наверное, поэтому осталось в памяти.
У меня трусы в горошек – хороши да хороши!
Все мальчишки приставают: покажи да покажи!
Ну, а ты, большой дурак, что не приставаешь?
У меня трусы в горошек – разве ты не знаешь?
Но ещё более вдохновенно в старших классах, разумеется, читала популярные в те годы стихотворения слепого Асадова («Парень со спортивною фигурой. / И девчонка – робкая душа…», «Они студентами были, они друг друга любили…») По рукам ходили затрёпанные книжечки сборников его стихотворений. Тёмные очки придавали его поэзии нечто романтическое.