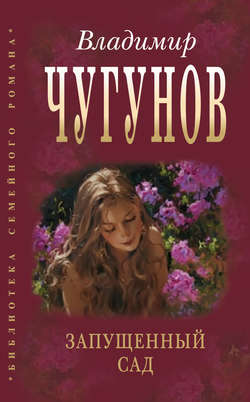Читать книгу Запущенный сад (сборник) - Владимир Чугунов - Страница 21
Школа
6
ОглавлениеСледующий этап взросления относится к тому времени, когда в наши ряды влилось пополнение из расформированного 9-го «вэ» класса.
Тот год был особенно драматичным в моей жизни, поскольку благодаря одноклассницам брата и пэтэушной истории друга детства я, наконец, понял, что катастрофически отстаю в безнравственном и физическом развитии от уходящих в мир взрослых ровесников.
И это притом, что ни одна из стрел беспортошного (не я их такими придумал изображать) Амура не пролетала мимо моего сердца. Прежние были ничто по сравнению с теми, что полетели в меня с первого сентября. Очевидно, до этого античный персонаж пристреливался, теперь же разил наверняка.
Начиналось, как правило, с переглядывания. Как бы случайного. Раз глянешь, два глянешь… И вот тебе уже отвечают. Чем чаще, тем чувствительнее. Наконец, доходит до того, что ты боишься лишний раз повернуть голову, потому как стоит повернуть – и Амурашвили (по-грузински – сын Амура) простреливает тебя насквозь.
И всё же считаю, никакой такой первой любви нет, а есть только опыты, предваряющие создание семьи. Наверное, поэтому в каждой новой возлюбленной в первую очередь предполагалась единственная. То же самое у девушек. Во всяком случае, наше поколение в большинстве своём было таким. И я прекрасно помню, как на уроках (пока не сделают замечание), по дороге из школы, в школу, дома, о том только и мечтаешь, что вот, наконец, придёт время, и вы поженитесь. Разумеется, это были самые сокровенные, никому не открываемые мечты. А какую на первых порах они доставляли радость! Такое впечатление, что ты обрёл сокровище! Ни о ком и ни о чём другом ты думать не хочешь и не можешь! Время сладостное, но мучительное.
Я лично начал мучиться ещё до написания записки, с просьбой проводить после уроков – предложение вечной дружбы (а в юности всё представляется вечным) должно было быть высказано тэт а тэт и, разумеется, не в первый вечер. Если бы мы учились в первую смену, вряд ли бы я отважился и на записку, и на провожание, ибо идти один на один рядом с девушкой посреди бела дня, да ещё неся в руках два портфеля, да ещё когда ты ниже её на целых три сантиметра, было тогда сильнее самой сильной любви. А вот тёмным осенним вечером, когда никто не видит…
Ещё до написания записки, я знал, что моя избранница живёт за речкой, на улице Весенней, и само название улицы придавало её образу какое-то особенное очарование. И это потому, видимо, что, в отличие от Пушкина, весну я любил больше, чем осень. Как раз – из-за того, из-за чего не любил её великий поэт: из-за «томления в крови».
Глядя на фотографии того времени, не могу понять, что привлекло меня к ней. Напряжённо погружаясь во многом уже тёмное пространство памяти, улавливаю озарённый заходящим солнцем овал лица, тревожный взгляд, и то душевное волнение, под воздействием которого даже самое заурядное лицо становится привлекательным. Думаю, гораздо больше в моей влюблённости было фантазии, того, что определяется словом дорисовать. И я, помнится, всё дорисовывал и дорисовывал, придавая всё большее и большее очарование оригиналу. Дошло до того, что однажды, будучи больным, с температурой, не выдержав пытки, притащился на уроки.
Не помню, почему у нас не срослось. Что именно помешало дальнейшему течению катастрофически, во всяком случае, для меня, развивающихся событий, помню только, что вскоре я оказался в страдательном положении, и что спасла меня от безответной любви музыка. Даже по прошествии стольких лет история с музыкой не кажется мне нелепой. И хотя я заявил, что никакое дело нельзя любить больше женщины, видимо существуют ещё какие-то особенные флюиды, которые способны потушить даже такое сильное пламя.
Тогда, на очередном занятии в музыкальной школе, я впервые на собственном опыте узнал, что такое вдохновение. Гораздо позже я узнаю, что только благодаря ему существуют все виды искусства, тогда же для меня это было настоящим открытием. Помню, как захватило оно меня, как услышал я внутри себя ни на что не похожую, ни разу не слышанную до этих пор мелодию. Что это было, не знаю, но она так навязчиво звучала во мне, что я, наконец, решился её записать. Однако сразу после скрипичного ключа завяз на размере (три или четыре четверти – всё не мог определить), наконец, решил, определю потом. Происходило это на уроке сольфеджио, в одном из небольших музыкальных классов, в полуподвальном, без окон, помещении огромного городского ДК, тогда как занятия по специальности проходили в светлых комнатах третьего этажа. Мы писали очередной диктант, но я, опустившись на пару линеек ниже, стал торопливо записывать звучавшую во мне мелодию, сверху нотного стана попутно проставляя гармонию – латинское обозначение аккордов, которые тоже прекрасно слышал. Продолжалось это до тех пор, пока подобно грому не разразился надо мной голос преподавателя – неприятной из-за постоянной сухости в лице тридцатилетней женщины: «Это ещё что такое?»
Я инстинктивно захлопнул тетрадь и как обнажавшую заветную тайну улику прижал обеими руками к столу, не хотел из-под своих рук выпускать. Но она всё-таки вытащила тетрадь и, развернув, несколько томительных секунд молча в неё смотрела. Затем глянула на меня, опять в тетрадь и, к моему удивлению, впервые улыбнулась. «Не ожидала, – призналась она. – Только сразу определись с размером. Три четверти, кажется. И последние два аккорда, по-моему, не те. Ну, и впредь желательно заниматься этим вне урока».
Весь оставшийся день был подобным сумасшествию. По обыкновению после занятий в музыкальной я ехал в школу. Ездить приходилось на рейсовом автобусе, около получаса пути, если не задерживал переезд, и минут десять приходилось топать от остановки. Если же переезд задерживал, я, как правило, немного опаздывал к началу уроков. Поскольку это не было связано с разгильдяйством, опоздания мои считались уважительными. Вообще, всё, что было связано с нашими помимо школы занятиями, принималось с уважением. Так и говорили: а вдруг будущий Чайковский растёт? Поэтому всякий раз, когда после предварительного стука и разрешения войти, я появлялся в классе, учитель говорил: «Проходи-проходи. Из музыкальной? Садись на место». В этот раз даже учитель, глянув на меня, спросила: «Не заболел? Вид у тебя какой-то… Ни жара, ни температуры – ничего не чувствуешь? Нет? Ну, проходи…»
И я, пройдя на своё место за первой партой, в течение всех уроков и перемен продолжал лихорадочно писать музыку. И только по дороге домой заметил, что за весь этот день не только ни разу не глянул в «ту» сторону, но даже ни разу не вспомнил о своей несчастной любви. Так началось моё постепенное охлаждение, не сразу, но всё-таки сошедшее на нет.
В романах часто описывают пространные разговоры влюблённых. На мой взгляд, когда любят, совершенно не о чем говорить. Любые разговоры всегда не о том, и либо уводят от чувства, либо тщательно скрывают главную его суть – обоюдное желание. В век нынешней раскрепощённости, во многих современных фильмах, например, отбросив слова, герои сразу же приступают к делу – и всё это подробно показывают для назидания непосвящённых. Нашему поколению подобного рода дела представлялись катастрофой. Да что – дела, даже первые поцелуи. Многие из нас до окончания десятого, а некоторые и до самой женитьбы не знали, что это такое. И если когда и доходило до поцелуев, то совранных непременно нагло, силой, что, как правило, завершалось пощёчиной, оставлявшей после себя чувство оскорблённого достоинства с одной стороны и чувство шпанливой гордости или неискупимой вины с другой.
Большинство из нас тогда считали, что любовь должна быть одной-единственной на всю жизнь. И если у тебя с одной, с другой, с третье не склеилось, тебя негласно записывали в позорный список коварных изменщиков. Девушки в это число не попадали по причине страдательного положения, поскольку не они, а их оставляли (разлюбляли или разлюбливали?), и опять же выбирали не они, а их, хотя случались, правда, и среди них Татьяны Ларины, а попросту «липучки», с которыми, подобно Евгению Онегину, никто никаких дел иметь не хотел, во всяком случае, в одном классе, в одной школе, в одном дворе, в одном посёлке, где, практически, все друг друга знали, друг к дружке присмотрелись, друг другу порядком успели надоесть, – но стоило появиться приезжим, вся округа тотчас подымалась на дыбы.
Вспоминаю сестёр-близняшек, молдаванок, поселившихся недалеко от школы. То, что с их появлением началось, нельзя назвать любовью, а какой-то повальной эпидемией. И я под окнами их дома да у крыльца, на котором по вечерам появлялись экзотические сестрицы, вместе с зараженными толпами потолкался. Необычная масть близняшек многих тогда свела с ума. Меня, разумеется, тоже. И отступился потому лишь, что со старшими по возрасту претендентами на этакую невидаль просто не котировался. Кстати, когда пришло время, обе вышли замуж, и не абы за кого, а за самых-самых.