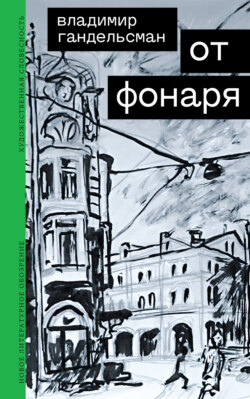Читать книгу От фонаря - Владимир Гандельсман - Страница 4
Первое отделение: от фонаря
Часть первая
МАЙ
ОглавлениеВыброшенная кукла вызывает смешанные и нестрашные чувства брезгливости и сострадания, вроде падшей женщины. Я обхожу ее, возвращаясь с прогулки.
Две красивые девушки, одна другой говорит: «Мне сегодня всю ночь снились сумки…». Проходить мимо, не останавливаясь, не попадая в завихрения чужих снов, лепетов и безумий. «Счастье» и «сейчас», конечно, однокоренные слова. Ведь счастье бывает только сейчас. А затем? Но чуть «затем» – и сразу затемнение. Я возвращаюсь с прогулки. Выходной.
На лестничной клетке из соседней квартиры доносится привычное подпевание. Людмила Петровна дает воображаемый урок музыки. Она в прошлом преподавала. Игорь Васильевич, наверное, дремлет. («Как Игорь Васильевич?» – «А-а, не спрашивайте…») Иногда я слышу его крики: «Милочка! Милочка!» – удостоверяется, здесь ли она. Изводит. Когда они выходят гулять, он держится за нее, двигаясь в ветхом наклоне, как слепой. Он явно умирает. Пока я открываю дверь, из квартиры стариков выпадает сын и быстро исчезает, выщелкивая каблуками на клавишах ступенек свою победоносно-освободительную гамму. Сын торопливо «навещал». А я вернулся.
На столе – рукопись.
«Между тем „брат“ укатывает в ночь, и – обескураженный, смутные бумажки в руке – почти протрезвевший Александр идет к дому, где не был несколько суток и где его молодая, но уже беременная вторым ребенком вторая жена перегорает, как он любит побалтывать в застолье, медленной лампочкой, чтобы когда-нибудь вынуть из груди остывший пепел, посыпать им голову и стать прихожанкой, слышь, брат, ближнего храма, так оно и будет, но пока жизнь Лидии освещает темную комнату, ей около тридцати, у нее прозрачные и одновременно матовые – вырезанные из ломкой кальки – тонкие черты лица…»
Но не сегодня. Случается, во время чтения я ничего не читаю и смотрю на соседний «экран». Причудливо выкладывается мысль. Точнее сказать, не мысль, а картины воображения, безоглядно обзаводящиеся наименованиями. Любимый ли в детстве калейдоскоп напророчил эти капризные рассыпчатые узоры?
Я вижу миссис Лилиан, внушительно пожилую, но сухую, стройную и стремительную женщину, c блистающей и по-западному ухоженной сединой синеватого окраса, учившую меня английскому в захолустном американском городке. Я прожил там три контрактных года, с 95‐го по 97‐й, наставляя детишек местного колледжа в вопросах физики. Английский был неповоротлив, и я брал уроки у миссис Лилиан на городских курсах. Мы подружились, – выяснилось, что она родилась в России и, хотя сразу оказалась в Германии и родным языком ее стал немецкий, русский знала превосходно и любила поболтать. Иногда она приглашала нас, меня и еще нескольких учеников, в гости на ужин. Ее муж до сих пор вел строительный бизнес, был крупным мясистым мужчиной, любившим, в соответствии со своими данными, мясо, которое в живом и бегающем виде было предметом его страстного увлечения – охоты. Мне представлялось, что он охотится в сопровождении миссис Лилиан, потому что она чем-то походила на борзую. Ладно скроенная, точно сработанная чудо-портным пара!
Помнится, Лилиан, увидев приветливо блеснувшую монетку на выходе из класса, просияла: «Вот, возьмите себе, я и так счастлива!» – и это было не высокомерие или небрежение вежливостью, но по-детски случайно выпаленная правда, – счастье бывает непредумышленно бестактным. Правда и то, что, воспользовавшись преимуществом плохого знания английского, я сделал вид, что не понял и переспросил, когда монетку мы безвозвратно миновали. Она с некоторой досадой сказала: «Проехали!»
Гордостью строителя-мясника в парадной (и музейной) части дома являлись огромные головы оленей, устрашающе развешанные по стенам и лестницам, уводящим на второй этаж и в подвал, – и подвал, этот склад оружия и боеприпасов, являлся музейной гордостью номер два. Показывая свой арсенал, он шутил, что держит и пополняет его на случай войны с Россией, затем мы поднимались в гостиную, он садился во главе стола, и «борзая» приносила ему огромный кусок мертвой фауны, который он нарезал для всех собственноручно и сладострастно, черт бы его побрал, этого живодера. Но побирал его не черт, а мирный Морфей, и побирал прямо за столом – примерно через час сидения Грэг начинал клевать носом под присмотром извинительно и преданно улыбающейся жены, которая позволяла несколько секунд колебаться грузному маятнику, а затем препровождала его поближе к небесам, на второй этаж. Вот уже сорок лет он вставал в пять утра, и ни минутой позже.
Часовой механизм этой семьи был заведен безупречно, трижды куранты били с особенным торжеством, отмечая рождения трех сыновей, и сейчас механизм работал с чувством выполненного долга и потому – с легкостью и даже беззаботностью, дающимися на склоне лет тому, кто здоров и кого не тяготят пороки, в том числе и пружинистые пороки воображения и мысли, – что ж, хитростью устройства «механизм» не отличался, но зато не было и взбаламученной грязи.
Сыновья выросли, жили отдельно и помогали отцу в его бизнесе. Символики ради стоит уточнить, что узкой специализацией их строительных дел была крыша. Крыша над головой. О, в этом бизнесе они преуспели не случайно. И если я постулировал вначале, что счастье бывает только сейчас, то, по сути, это не противоречит жизни моих супругов: их «сейчас» не прекращалось и не изнашивалось с годами. У счастья нет истории. Именно поэтому Толстой со своим знаменитым зачином в «Анне Карениной» – безупречно прав.
Им, конечно, было неведомо то уцененное положение, когда взаимные или односторонние измены лишь укрепляют семейные узы, все более утверждая изменника в мысли, что лучше его супруги никого нет. («Это человек высокого благородства!» – так он определяет вынужденно-снисходительное отношение жены к его похождениям. Или она – к своим.) Не знали они и противоположной крайности: взвинченного упоения верностью и родством душ, тем неустанным и малодушным уверением себя в том, что можно обойтись без «всех», что их любовь самодостаточна, когда в долгих диалогах друг с другом сходятся во мнениях все ближе и ближе, пока не сходятся даже в путях к мнениям и само это согласие не становится асимптотическим соитием. Истерика и Америка не рифмовались.
Не все так просто, как у приснопамятной четы. Чесотка часового механизма – вот эпидемия. Истерика шестеренок. Насекомый бег секундной стрелки, вызывающий рептильный вздрог стрелки минутной. Надтреснутый и всегда отдаленный, но по-звериному опасный бой курантов.
Часы, вциклопленные в желтое здание проезжего вокзала, – эмблема житейского времени, здесь копятся беды разлук, опозданий или почтовых извещений и – с оборотной стороны – радости, живущие в другом ритме и другой тональности, как овеянный внезапной тишиной сквер за вокзалом, где местный житель, блаженно выпивший, лепечет: «О, куцая акация…», хотя она полноценно цветущая, – он сидит на скамейке, закуривает и знать не знает нервного соседства, пока в один прекрасный день не закатывается прямоугольным шариком в прямоугольную лузу вокзальных дверей и, оказавшись на стороне беды, не угромыхивает в другую жизнь, тамбурно, тамбурно, туда, где его ждет неотвратимая радость.
В ту пору я не пытался мысленно искривлять пространство-время в будущее, только – в прошлое. А вернее, оно само предъявляло свои права, когда я навещал одну старушку в соседнем городке.
Я только видел расположение воздуха, смотрел на его прозрачную архитектуру и думал, что она создана дыханием людей, спокойным и размеренным, не искалеченным бесшабашно-учащенным извержением слов и категоричностью мнений.
В четверостишии Блока «И вновь – порывы юных лет, / И взрывы сил, и крайность мнений… / Но счастья не было – и нет. / Хоть в этом больше нет сомнений!» вместо многоточия и «но» после второй строки должны стоять запятая и союз «и»…
Роберт, Робертино, мой приятель с кафедры славистики, работавший тоже по контракту, зачитывал мне всегда одного и того же автора из газеты «Новое русское слово», и хлопал крыльями, и негодовал по поводу озлобленного фельетониста и содержания его заметок. Признаться, я не совсем разделял его негодование и два пассажа иронического репортера сохранил.
«Россияне за границей так не любят и так избегают своих, как будто их тяготит память о групповом изнасиловании или убийстве – нагадили, разбежались в разные стороны, договорившись больше не пересекаться, извините, во избежание отягощающих улик, и вот тебе пожалуйста – ! Какого черта ты тут делаешь, гнида?.. Он-то думал, что уж теперь будет „делать“ в одиночку, не завидуя тому, кто делает больше и слаще…»
И еще одна: «Когда я слышу, извините, постфактум-„откровение“ вскользь проехавшего по Америке российского режиссера: „Белые там – сплошь скрытые расисты“, – я думаю, и думаю по инерции с тем же ядовитым сипением, что свобода слова – пустяк по сравнению со свободой от слова, ибо первая, позволенная внешним распорядком, колеблет воздух и склонна к исступлению и разрыванию его в клочья – не так ли, извините, откровение и исповедь легко соскальзывают в психопатию и с мазохистским удовольствием идут вразнос? – а вторая, стесненная внутренним порядком и смущением судить, определяет его незыблемое устройство и, значит, возможность дышать».
Робертино был настроен пророссийски, эмигрантов не жаловал, так что первый случай возмущения не вызвал и даже потрафил его патриотизму. Негодование вызвали нападки на соотечественника из второй заметки.
В конце мая того года он упорхнул в Нью-Йорк, где проходили чтения памяти умершего четыре месяца тому назад Иосифа – так он называл Бродского, великодушно позволяя себе простое дружеское «называние», поскольку иногда останавливался в Нью-Йорке в квартире близкого друга поэта. Друг возглавлял кафедру славистики в нашем колледже, а Робертино – иногда, когда Бродский отлучался – выполнял роль сиделки его кота.
Съехались прозаики и поэты, в том числе из России, и мой приятель восторженно порхал меж ними, оживленными скорбью и сердечными чувствами.
«Какие люди! Представь, звонок в квартиру, стоит Сытин, сам Константин Сытин, представь! С ним кинооператор. Проходите, туда-сюда, я его узнал, они с Иосифом с юных лет. Нельзя ли соорудить краткую съемку? Сытин садится в кресло, берет на руки кота, оператор снимает. Ты бы слышал его речь – такое благородство, чуть не плачет, но сдержанно гасит слезу. И все кота гладит и жмурится, точно кот, солнце в окно майское, смотрит на мурзика, как если бы это Иосиф. Меня пробрало. Оператор интервьюирует, спрашивает, мол, чем отличается гений от таланта, и мне показалось, что он при слове „гений“ посмотрел на кота, а потом на Сытина – при слове „талант“. Тот задумался. Мне стало его жалко. Он ведь тоже гений, но не такой прославленный, а людям дай только поживу – сразу в тайной зависти заподозрят, слухи запустят. Легко быть на стороне славы, а ты успокойся, не горячись. Есть и правота обделенного. Он отстаивает традиционные ценности. Зачем в стихи площадную лексику встраивать, угождать подворотне? Будь сдержан, соблюдай пунктуацию, не эксплуатируй безысходность, есть «возвышающий обман», ласточка в небе, музыка над нами, верно? Своя правота. Учтивость. Вежливость. Я видел его с женой на обеде в „Русском доме“ – такая трогательная нежная пара, она ему йогурт – „ешь, он почти без сахара“. Я запомнил, потому что она говорила «йогурт» с ударением на втором слоге. Йогýрт, йогýрт. Так мило. Простая забота, чудные люди. Нет, злые языки тут же придумали, что он вообразил себя стоящим на страже русской словесности, стоит, всплескивая ручищами и шевеля толстыми губищами, дескать: „А вы почитайте классику, того, сего…“ Что ж, участь счастливого человека – клевета, и мне за него больно».
Так порхал Робертино, за что и получил в моей записной книжке имя «Stupid butterfly».
Я шел на автобусную остановку и ехал к чудной старушке.
На секунду соломенную, соломенную,
на дымок кофейный, кофейный,
на разломленную
полукругом, как веер трофейный,
эту улочку неозлобленную, —
отзываешься лаской,
столь бессмысленной, сколь и согласной
с миром. Тянет тайландской
кухней, греческой и итальянской.
Сколько жизни и смерти напрасной
я забуду в засвеченную, засвеченную
золотую секунду, —
антикварную, полузавешанную
драпировкой витрину, посуду
в ней, ампирную мебель увечную, —
все увижу и все забуду.
Охру солнца, зевоту искусства,
улыбающегося Будду
и лежащую в отраженьи без чувства
облаков известковую груду.
Все противилось вопросительному насилию.
Не всегда успешно.
Помню, Грэг рассказал, что проходил обследование с подозрениями на рак, и пока подозрения не развеялись… – «Да, пока подозрения не развеялись, – с праздным любопытством подхватила одна из учениц Лилиан. – Вам было страшно?» – (пауза) – «Нет». – «Но что вы чувствовали?» – (пауза) – «Было обидно».
(В подобных случаях Эдуард говорит: «Эта минута неизъяснима и трепетна».)
По дороге к Сэде я, готовясь к урокам английского, читал тексты Лилиан, которые надлежало переводить или пересказывать. Это были письма куклы, потерявшейся в большом городе, своей хозяйке.
«Мне только хотелось посмотреть, что за углом. Я думала вернуться, но вышла в город и сразу заблудилась. В нем столько людей и направлений! Один человек нес под мышкой, как градусник, длинный, желтый, почти розовый батон. Другой сидел в кафе и то и дело целовал чашку, поднося ее к губам. Третий прошел мимо второго и, протянув руку, что-то попросил у стеклянного куба. Тут на его ладонь высыпалась горстка белых фисташек c приоткрытыми ртами. Улица была узкая-узкая, и поэтому многие окна заслонялись от своих двойников напротив белыми ставнями. Они как будто говорили: мы не смотрим друг на друга. Но, может быть, они подглядывали из темноты комнат? Зато в одном открытом настежь окне я увидела девочку, она улыбалась. Я как будто узнала ее и хотела подойти поближе, но, пока шла, уже стемнело и окно потерялось. Тогда я взглянула перед собой: через несколько шагов улица круто уходила направо, и, конечно, мне стало любопытно, что с ней творится там, на невидимой стороне…»
Этот текст окольно перекликался с моими занятиями. Я преподавал студентам начала теории относительности, а кроме того, обдумывал статью о кривизне пространства и времени у Кафки и о связи его видений с теорией Эйнштейна.
Я не знал тогда, что они встречались в Праге в 1912 году и что Э. среди прочего (и не дошедшего до нас) рассказал К. о том, что раз в детстве заплакал, увидев марширующих солдат (только этот умильный сюжет и сохранила история). Скудость сведений об их беседе была восполнена позже, когда я вычитал в письме Кафки к Милене такой пассаж (он смотрит на марширующие под окнами французские войска, которые для него «некая манифестация сил, взывающих из глубин»):
«„И все-таки, о безгласные пешки, о марширующие и до дикости доверчивые люди, – все-таки мы вас не оставили, не оставили вас во всех ваших величайших глупостях – и особенно в них“. И вот смотришь с закрытыми глазами в эти глубины – и почти тонешь в тебе».
«В тебе» – в Милене. Неожиданный поворот с проторенного пути отчаяния в сторону рискованного спасения. Как и теория относительности. И все это – невидимое продолжение улицы.
Помнится, в колледж приехал русский писатель, сделавший небольшую карьеру на диссидентстве, и уже после его выступления, на вечеринке, один из славистов произнес по какому-то поводу имя «Кафка». Писатель небрежно отвлекся вбок: «кафка-шмафка». В этот момент согбенный почитатель поднес ему дымящуюся чашечку.
Я иду на кухню заварить кофе…
Копящиеся сны человечества когда-то начинают кипятиться и переливаться через край в поисках гениальной головы. Ведь сон испокон веков подсказывал миру его нелинейность…
В недавнем сне ко мне подошел человек, которого я раздражал, видимо, своим высокомерием (в детстве я заикался и потому неразговорчив, только и всего…), и спросил: «Ну что, ты королев?» В реальности я бы его не понял, но здесь все было ясно: ты королевист? с замашками короля? – это было краткое прилагательное и лингвистическое искривление…
Заодно я варю яйцо, потому что люблю смотреть на белое сваренное яйцо на белой тарелке…
И вспоминаю стихи Осипа Мандельштама: «О, как же я хочу, / не чуемый никем, / лететь вослед лучу, / где нет меня совсем…».
Альберт Эйнштейн с детских лет хотел отправиться в путь на луче света и записывать наблюдения.
Дом Сэды – так мне казалось – тайно коллекционировал солнечный свет, который, наверное, когда-то радовал своей новизной обитателей, и не подозревавших, что их радость вдохновлена всегда новыми формами световых пятен, и они были бы удивлены, скажи им, что узоры никогда не повторяются – на стенах, мебели, цветах, – и еще мне казалось, что этот дом ежесекундно готов предъявить свою коллекцию и осветиться. Но он оставался затененным, потому что носил траур по хозяину. Сухая прохлада обитала в нем. Сэда свято чтила память недавно умершего мужа и, сообщив мне при знакомстве, что прожила со своим скрипачом шестьдесят лет и два месяца, сама, без моих робких вопросов, никогда его не упоминала. Мы беседовали на лебедином озере веранды, где бывшая балерина могла принимать лебедят и где редкое поскрипывание половиц невольно обращало ваш взгляд на молчаливый дуэт скрипки и пюпитра, приютившихся в углу и выступавших в роли изящного памятника мужу, или – на фотографии молодой Сэды в балетной пачке, – то в одиноком склонении, то в развернутом кордебалете среди таких же миниатюрных балерин, – и, возможно, ваш взгляд, – о да, скорее всего! – ваш взгляд становился взором.
Иногда появлялась девушка Ия, помогавшая старушке вести хозяйство, и, при всем моем интересе к далекому прошлому первой эмиграции, я огорчался, если за время визита она ни разу не забегала на веранду или хотя бы не промелькивала в прихожей. У нее было неповторимое лицо, остановившееся на грани ненормальности, – словно бы, заглянув за грань, оно спохватилось и замерло, а в глазах остались испуг и любопытство, и, поскольку на два состояния их не хватало, они были чуть больше обычных, хотя верхние веки сопротивлялись и довольно круто срезали – наискось и вниз – уголки глаз с височных сторон.
Мне нравилась та отдаленная легкость, с которой она походила на мою жену, – память была жива, хотя прошло чуть ли не двадцать лет, как Мария меня покинула, – и даже имя ее звучало истаивающим эхом: Ия. И я, ухватывая промельк, не заглядывал в минувшее и не ломал себе шею и голову в поисках несуществующего, – медленное, а потому милосердное его убывание было передо мной. Эхо и есть образ уходящего возвращения.
Да, письмо куклы…
«Бродя по городу, я заметила, что все поголовно несли в кармане свое желание. И это был не боковой карман, а тот, что возле сердца. Иногда, как у заводных игрушек, у них кончался завод, и они замирали на скамейках. Или замедляли ход и останавливались – по двое, по трое, – жестикулируя и окружая себя белыми облачками дыма. И снова пускались в путь. Все улицы вели к площади или к мосту. К площадям выходить было радостно, а к мостам тревожно. Может быть, из‐за воды, которая дрожала то вдоль, то поперек, и ее дрожь передавалась прохожим. Они подходили к парапету, ежились и показывали руками на старинный замок на другом берегу. А некоторые вынимали из кармана карту или путеводитель и сверяли свое желание с местностью. Я вышла на площадь. Посередине стоял большой квадратный помост, разлинованный под шахматную доску. К нему со всех сторон стекался народ. Люди располагались поближе к сцене, окруженной рвом оркестровой ямы. Они теснились и жались, пытаясь занять лучшие места, но меня, как самую маленькую, пропустили вперед, к ограждению. Потом площадь погасла; небо стало черным и звездным; и тут же вспыхнули огни вокруг помоста. На нем в белых, прозрачных и легких нарядах стояли шахматные фигуры, каждая в своей клеточке, и – затерявшаяся среди них – фигура черного короля. После невероятной по длительности секундной паузы все началось. C музыкой белые танцовщики пришли в движение, а черный король оставался неподвижным – он только поднял голову и растерянно смотрел по сторонам. Балет разворачивался медленно и тем самым тянул жилы из зрителей, у которых удовольствие от зрелища сменялось томительным ожиданием развязки. Белые искали пути к мату, но черный король одним-двумя движениями, видимо, разрушал их планы. Правда, он постепенно смещался к краю помоста, и его движения становились все более нелепы и жалки. Девочка, которую держал на руках толстый и высокий господин, крикнула: „Не сдавайся!“ – и зрители, стоящие рядом, засмеялись. Господин, вытирая лоб платочком, таким маленьким в сравнении с ним самим, сказал: „Не переживай. Это игра такая“. Но девочка не унималась, начала хныкать и говорить, что хочет домой. Мне тоже захотелось домой, но я стала мысленно забегать вперед, чтобы догадаться, чем все кончится, и отвлечься. И там, в своих мыслях, я заблудилась, как перед этим заблудилась в городе. Я то выбиралась из них и видела действие на помосте (оно все шло и шло, белые фигуры растянули прозрачную сеть и пытались опутать ею короля), то опять погружалась в смутные догадки, которые только затягивали…»
В соседнем садике собираются любители поиграть в шахматы. Они курят, щелкают часами и переговариваются. Вся прелесть – в сочетании движения и речи, в этих вариациях на одну, потом на другую тему, в неспешной повторяемости ходов и фраз, с их узнаваемостью и легкими отклонениями от предыдущих сочетаний.
«Они затрогали их насмерть…» – «Кого затрогали они?» – «То были бабочки, мой милый…» – «Кого затрогали они?» – «Их было сто, и все летали…» – «И все летали? Это зря…» Фраза – ход. Фраза – ход. Спрашивает и переспрашивает обычно тот, кто защищается.
Из их многоходовой десятиминутной поэмы я узнаю́, что где-то открылась выставка-оранжерея диковинных тропических бабочек, и в первый же день около ста красавиц были «затроганы» сластолюбивыми посетителями. Они обсуждают последние известия.
Пока к победителю подсаживается новый партнер, расставляются фигуры и фиксируются красные стрелки контрольного времени, можно смотреть поверх голов, и дальше – поверх деревьев, на вечереющее небо, которое сегодня безоблачно покровительствует игре.
Вернувшись, я сижу несколько минут в комнате, в неподвижной тишине.
Свет, угасая, медлит,
на кресле нежась.
Есть в слове «мебель»
лакированный ужас.
Рука – отраженный жест —
вытирает пыль.
– До-диез! До-диез! —
голос возник и сплыл.
На тахте старик,
умирая, кричит, —
в дверь внедрился крик
трещиной и молчит.
В сыне бунтует плоть,
зовет: пойдем,
станем есть и пить,
ибо завтра умрем.
И, от страха устав,
дверь притворив,
тихо уходит исав.
Свет истаял, исчез мотив.
Просыпаясь, я вижу в окне дерево. Жена любила деревья и всегда просила в подручном пейзаже выбрать заветное, чтобы сравнить со своим. Еще она просила научить ее играть в шахматы. Потому что в них можно играть наедине с собой. Неожиданная идея. Но так она сказала.
Иногда близкий кажется совершенно чужим. Я бы сказал, что только абсолютно близкий может показаться абсолютно чужим. Смотришь в одну точку, и она начинает удаляться… Чувствам здесь делать нечего, и тогда думаешь: если бы жизнь была вечна, то любить человека было бы не за что. И невозможно. Смерть порождает жалость любви. И жалость эта настолько велика, что пробирает любого.
Смысл любви в том, что все самые последние соринки, живые и неживые, становятся связаны воедино. Быть может, только в этом смысл больших чувств вообще. Если спасение (от чего и куда? от страха «никуда» в никуда?) понимать как блаженное переживание связанности всего явленного, то чувство, самая демократичная, если не сказать низшая способность живого существа, – это возможность спасения. Даже для неодаренного человека…
«Верно, верно. Но не „даже“, а в первую очередь – для него».
Я никогда не забываю ни одного из тех, кого знал и кого не стало. Не из морально-гигиенических соображений, но вопреки всем соображениям. Ушедшие сами являются, и что ни день, то на краткий миг обретают во мне свои летучие черты. Проносятся – и все. Не я посещаю кладбище, наоборот. Но и кладбищем этот бесплотный и живой пролет не назовешь. Это способ жизни неугасимого потрясения: куда они делись? Где те, кого нет?
Снится мать, говорит: «Дай мне две книги светского содержания и две религиозного». – «Что?!»
Сегодня воскресенье. Мои маршруты: комната-кухня-комната, квартира-сквер-магазин-квартира. Мои действия: чтение-отвлеченные мысли-чтение-еда-приборка. Пыль. Пока ходил за тряпкой, пыли стало больше. Мгновенно. Пыль накапливается не в виде себя, а в виде ощущения, что давно ее не вытирал. А у этого ощущения другое время. Так же точно, приближаясь к бане, скоропостижно грязнеешь. Еще застелить постель… Однажды, когда я остался ночевать у Леонида, он поутру сказал: «Тут требуется особенная аккуратность! В моих заповедях „На покидание дома“ это вразумление № 7. А вот № 8: „Не оставляйте кран капающим – это оскорбляет тишину в ваше отсутствие“».
Недавно я был в своем городе и навестил Музей-квартиру Блока. Там есть его спальня. В дальнем углу, чуть за ширмой, – застеленная кровать. Жутковато. «Быть лириком – жутко и весело» – так он писал в одном письме. Мне казалось, что там мерцает живая кукла носом вверх. Но вид из окна – в той же комнате – был освобождающий, солнечный, самозабвенный.
В окне дерево.
Природа установлена изнутри себя. Она не может быть другой. Но человек не только не установлен, он всегда другой. Не равный себе. Сопоставляющий… – «Ты опять за свое…» – Я могу сказать цельно.
Когда-нибудь не увидеть это дерево – вот беда. Похожее ощущение бывает, когда слушаешь прекрасную музыку и думаешь: какой ужас, что ты не композитор.
(В подобных случаях Эдуард говорит: «Для людей нет исключений».)
Дом Сэды излучал спокойствие. Он жил под беззвучное музыкальное сопровождение, которое становилось все тише и прозрачней. Есть благородное сопровождение, а есть дырявое. Я любил ездить в Сэдин дом, поглядывая из автобуса на лучезарную безлюдную улицу с кафе и лавками и почитывая задания Лилиан.
«Потом, когда я очнулась и уютно отдыхала, я вспомнила, как кто-то из музыкантов вынул из бархатного футляра игрушечный топор и подал белому офицеру. К тому времени черного короля уже связали, и оставалось только… И тут я, наверное, лишилась чувств. Очнулась я в странном доме. В нем жил фокусник…»
Другие задания продолжали эту историю в письмах, их было около пятнадцати. В сумме это выглядело примерно так:
«…Всюду какие-то привлекательные мелочи: бинокли, шкатулки, часы, аквариум с черепашками, весы с гирьками, еще черная коробка, из которой он достает все что угодно. Заглядывать в нее запрещается <…> Я узнала все коробкины тайны. Май взял меня в свой фокус. Кроме него и нас двоих (у него работает еще лилипут Лил), в цирке есть акробат Адью, сидящий целыми днями на трапеции под куполом и оживающий только на представлении (но как он летает!), есть силач Тедо, который прыгает и отжимается с привязанными к ушам и волосам тремя пудовыми гирями и удерживая в зубах четвертую, есть дрессированные морские львы с лицами глупых и усатых городовых, но добрые… Да, это настоящий цирк! <…> Мы с Лилом залезаем в коробку, а потом свет гасят – барабанная дробь! – и зажигают, а мы выскакиваем на галерке и кричим: „А вот и мы! А вот и мы!“ – и оркестр торжествующе расслабляется <…> Жена фокусника Джеральдина любит с нами играть, особенно с лилипутом, – она берет его на руки и сажает на подоконник, чтобы он смотрел на улицу, по которой снует желтый трамвай, всегда номер 177, по утрам на заднюю площадку вскакивает высокий господин, в шляпе и в длинном плаще, который, кажется, смотрит в наше окно, пока трамвай удаляется, а иногда они играют в карты на диване, но мне это скучно, особенно если появляется черный король, и я ухожу погулять. <…> Вчера Май устроил такой фокус, что мы перепугались. Он сказал, что сейчас улетучится, и стал уменьшаться, уменьшаться и исчез. Жена бросилась в другую комнату, но в это время он появился как ни в чем не бывало на том же месте, прямо из воздуха, и сел ужинать. <…> Лил исчез из дома, а Май уехал на гастроли. <…> Мы с Джеральдиной его ждем. <…> Мы его ждем. <…> Мы его ждем. <…> Вчера она сказала: „Его больше нет“ – и повезла меня в Бюро. Скоро меня перешлют тебе. Ты только не удивляйся, когда мы встретимся. Я, наверное, очень изменилась, ведь я столько повидала. Я очень соскучилась по тебе, но уже завтра мы увидимся, и тогда я начну скучать по фокуснику Маю. Он сам делал кукол, и найти меня, готовую куклу, – наверное, это была удача! И еще я думаю, что вся моя история – это дело его рук, ведь он фокусник, и то, что его больше нет, тоже временный фокус».
Именно в тот день, когда я читал завершение кукольной истории, простукивание дома не принесло никакого результата, кроме явного ощущения, что он пуст. Мы ведь точно знаем, когда нам просто не открывают. Соседка сказала, что Сэда умерла, неделю как похоронили, приезжал сын… Все.
Сэда усыхала, чтобы легче и безболезненней уйти. Ее становилось все меньше и меньше, и наконец она исчезла. Заодно исчезла Ия. Как и положено эху, она была не вполне различима, но ее схожесть с Марией так удивляла, что чувство реальности испарялось, а когда заперли дом, – да, это началось именно в тот год, – я начал на какие-то мгновения себя терять. И терять уверенность в том, что все это на самом деле. Иногда было невозможно различить, что было наяву и что во сне. Открывал ли я в Сэдином доме ошибочную дверь и видел ли молчаливую девушку, вполоборота, в кресле с куклой в руках, надевающую на нее кофточку и что-то приговаривающую? Но почему в уменьшенном масштабе и таком подчеркнуто ярком освещении?
Я начал встречать на улице умерших, в лицах детей молниеносно видеть черты будущих стариков, а в лицах стариков – бывших детей. Случилось нечто необычное из разряда того, в общем, обычного (а вернее – привычного), что происходит с человеком в жизни и что в конце концов сходит по неподатливому и елозящему трапу в объятия опередившей родни.
Беглые подозрения вспыхивали, но ясное звездное небо установилось много позже. Сначала Лилиан показала семейный фотоальбом. «А вот это я с той самой пропавшей куклой! Мне лет шесть-семь…» «А это я со своим учителем английского, я ведь тогда английский еще не знала. То был русский молодой человек, здесь совсем стерся…»
Через несколько лет я прочитал в книге о Доре Димант, что Франц Кафка, гуляя с ней, своей последней в жизни подругой, в парке Штеглица, под Берлином, увидел плачущую девочку, которая потеряла куклу. К. сказал, что знает, в чем дело, и что будет приносить ей письма от куклы, отправившейся в путешествие. И в течение двух недель приносил. Примерно с начала декабря 1923 года он жил по адресу Берлин-Штеглиц, Груневальдштрассе, 13.
А совсем недавно, перечитывая рассказ Набокова «Картофельный эльф», я узнал из примечаний, что он начал печататься 8 июня 1924 года в газете «Русское эхо», в Берлине. Франц Кафка умер за пять дней до начала этой публикации, и в своем названии рассказ салютовал его имени и фамилии двумя «ф».
По свидетельству биографа Н., «к концу 1923 года (…) Набокову уже приходилось целыми днями разъезжать по Берлину в желтом городском трамвае с урока на урок. Большинство его учеников были русскими…»
Значит, письма куклы и девочкины пересказы этих писем Набокову – январь-февраль-март 1924 года. В апреле он уже все знает и пишет «Эльфа».
И еще в одном постороннем немецком романе я нашел трогательный завершающий штрих: «Трамвай 177 поехал без меня в Штеглиц…»
Установив истину, я, к счастью, уже не мог узнать, любил ли учитель английского сажать Лилиан на колени, читал ли с ней «Алису» Кэрролла, пахло ли от него табаком, играла ли она в театре, когда училась в американском колледже, и был ли у нее ухажер-драматург, а если был, знает ли она, что ее жизнь увильнула от романного продолжения в счастливую сторону, да что там говорить, читала ли она когда-нибудь «Защиту Лужина» или «Приглашение на казнь». Думаю, что и не слышала, а о Кафке подавно…
Она жила в раю, обещанном герою «Америки», но доставшемся ей. А я к тому моменту, когда уже ничего не мог уточнить, потому что давно вернулся в Россию, ничего уточнять и не хотел.
Поздним вечером. Поздней весной. С вокзала Grand Central на 42‐й. Возвращаюсь в колледж. Поезд вдоль Гудзона. Огоньки на том берегу. Черная полоса воды вплотную. Теплое дыхание воздуха, цветов, деревьев на остановках. Проводник в фуражке и в кителе, аккуратный, с компостером. Чик-трак, билет под погон кресла, и дальше. Городок, палисадник, дома в отдалении. Детская железная дорога и конструктор с краснокирпичными блоками. Тележка с носильщиком. Автокар. Жмет на рычажок. Жмет на рычажок. Ни с места. Часто снится: мы с матерью, отцом, с кем-то еще собираемся в дорогу, опаздываем, я говорю, что надо выходить, иначе не успеем на поезд, но никто не выходит, все снуют и до-собираются, – и вот эта убийственная тягомотина, изматывающая душу, – никак не свершиться тому, чему время свершиться. Жмет на рычажок. Поезд трогается. На ковре. Особенно завораживают человечки. Носильщик. Машинист поезда. Балеринка. Маленькие фигурки людей, вкрапленные в игрушки. Шоферы в кабинках. «Приключения Карика и Вали». Как под микроскопом: первомайская демонстрация, мама сияет, гремит военный оркестр, бумажные цветы, репродукторы, сослуживцы. Отец начищает пуговицы кителя, продевая под них картонки с разрезом. Бархотка. Кортики. Инфузория-туфелька. Вот этот шаг. Один шажок до кукольного небытия. До фокуса исчезновения. До появления на галерке мысли. «А вот и я». Где? Проводник. Платформа. Мы в тесном купе. Но кто-то остается там, за стеклом. Кто? Не успеваю. Как не успеваешь за мыслью, вильнувшей ящеркой. И хорошо, и не надо за ней. Под камень. Делать вид, что смерти нет. Проскок. Что нет. Проскок. Все, что проскочить нельзя. Спать. Двойным сном. С двойным дном. В черной коробке.
За углом времени нет никого,
никого, ничего,
нет ни видимого, ни того, кто видит,
не чернеет ночь, день не светит.
Разве только военный марш
донесется из детства, – и всхлипнет весь
неожиданный мальчик наш.
Нет уж, лучше здесь.
Никого, ничего, не горит очаг.
Одиноко стоит Альберт,
и пред ним колеблется на световых лучах
голубой мольберт.