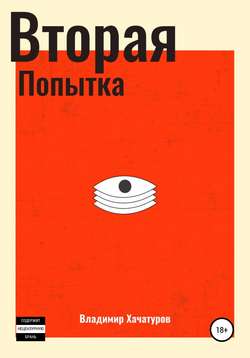Читать книгу Вторая попытка - Владимир Хачатуров - Страница 3
Часть первая
Возвращение блудного сына
Урок физики
ОглавлениеКабинет физики находился прямо над учительской на том же третьем этаже, что и рассадник военно-прикладного патриотизма. Вертикальное соседство с педагогической кают-компанией обеспечивало относительную тишину на уроках. Даже на переменах шуметь здесь старались в меру. Впрочем, каждый в свою.
Брамфатуров, сколько ему помнилось, всегда и везде располагался, как правило, на последней парте. На физике – у окна. Туда он и сложил свой скарб – пальто, портфель, благие намерения. Вернувшись с перемены, обнаружил, что его место занято какой-то миниатюрной незнакомкой. У девочки были тонкие, несколько нервные черты лица, крупные серые глаза и вьющиеся русые волосы. Сочетание, прямо скажем, недурственное. Однако узенькие плечики, скорее великодушно угадываемая, нежели наличествующая грудь, а также расстояние от спинки парты до упомянутых плечиков указывали на невысокий рост и тщедушную конституцию. Рядом со всем этим восседал на своем законном месте Борька Татунц – обладатель сходных с описанными статей в их мужском воплощении. В общем, идеальная пара…
– Вов, знакомься, это Жанна, новенькая, из Жданова.
– Прошу прощения за невежество моего друга, Бабкена Татунца из Еревана. Мама его конечно учила, что первым представляют джентльмена даме, а никак не наоборот, но он такой у нас рассеянный… Впрочем, все равно – очень приятно познакомиться! Я – Владимир из Тифлиса.
– Тифлиса? – неожиданно грудным голосом выразила легкое недоумение новенькая.
– Из Тбилиси, – несколько раздраженно внес поправку Татунц и, игнорируя знаки препинания, прибавил: – Подумаешь, слегка перепутал!
– Если Жанна из Жданова, то я – из Тифлиса, – стоял на своем Владимир.
– Какая разница?
– Существенная. Но если вы, Жанночка, согласитесь быть из Мариуполя, то я, так и быть, не стану отрицать, что я из Тбилиси.
Девушка неуверенно улыбнулась и взглянула на Борю.
– Соглашайся, пока он добрый, – оглушительным шепотом посоветовал въехавший в тему Татунц.
– Вы не любите Жданова? – задала наводящий невинный провокационный вопрос новенькая.
– Андрей Саныча? – изумился Брамфатуров. – Да я в нем души не чаю! И не я один, весь Питер в нем не только души не чаял, но и много чего еще, помимо души, не ощущал…
– Понятно, – многозначительно протянула девушка, переводя взгляд с одного молодого человека на другого и обратно.
– Да, Вов, – вспомнил Татунц, понижая голос до конфиденциального минимума. – Извини, но ты не мог бы…
– Не только мог бы, но действительно могу, причем прямо сейчас, – перебил Вов. – И это не просто слова, дорогие мои! Я готов подтвердить их конкретными делами. Жанночка, если вы вытяните ваши чудные ножки, а ты, Татунц, уберешь свои копыта из-под парты в проход, то я смогу извлечь мой портфель и гордо удалиться, в смысле – проследовать в изгнание. Клянусь Ждановым под юбку не заглядывать! Даже одним глазком. Точнее, левым – он у меня шибкий…
Бойлух Сергей, сидевший на предпоследней парте в том же ряду и едва не свернувший себе шею в попытке не только подслушать, но и узреть слышимое, запылал лопоухими ушами и повалился грудью на парту, сдавленно рыдая от смеха.
– Здравствуйте, ребята! – поприветствовала вскочивший на ноги класс учительница физики. – Садитесь… Брамфатуров, ты куда?
– Я? Никуда, Эмма Вардановна. Ухожу с дороги, подчиняясь закону третьего лишнего… Уйду-у с дороги, тако-ой закон – третий должен уйти…
Эмма Вардановна взглянула на парту, за которой восседали те самые двое счастливых виновников добровольного изгнания третьего и понимающе улыбнулась.
Тем временем «изгнанник», заметив, что отличница Маша Бодрова сидит за второй партой того же ряда в гордом вынужденном одиночестве, не преминул этим обстоятельством воспользоваться.
– Машенька, разрешите бедному изгнаннику земли родной найти в вашем обществе утешение…
Маша покладисто отодвинулась к окну, однако в полном согласии с противоречивой женской натурой ехидно уточнила, на какое такое утешение рассчитывает несчастный изгнанник.
– О, претензии мои невелики, надежды – невинны: слепое поклонение да нежное обожание, – вот тот мизер, коим готова довольствоваться душа моя…
– Смерть от скромности тебе, Брамфатуров, явно не грозит!
– Умереть от скромности, Эмма Вардановна, немыслимое дело для живущих, потому как настоящие скромники – те, которые действительно могли бы откинуть коньки от скромности, – попросту не рождаются, причем именно из скромности, которая не позволяет им принять деятельное участие в нахрапистом забеге своры сперматозоидов в матку обетованную. Ergo[5] от скромности можно только не родиться, но никак не умереть. Вот и получается, что смерть от скромности есть проявление такой нескромности, какая только возможна среди живущих. Помереть от мании величия или белой горячки было бы куда как скромнее…
Гы-гы-гы – заржали те, кто был осведомлен о скромных проявлениях белой горячки. Прочие понимающе ухмыльнулись.
– И потом, зачем помирать от скромности, если есть такие дивные причины для кончины, как рак, инсульт, несчастный случай, смерть от старости, наконец…
– Или от чахотки, к которой так любит прибегать в своих романах твой любимый Достоевский, – дополнила перечень учительница.
– Все, что надо знать о жизни, есть в книге «Братья Карамазовы»…
– Кто это сказал? Ты?
– Боже упаси, Эмма Вардановна! Это не я, это Курт Воннегут, автор «Бойни № 5»…
– Слышала, но не читала, – призналась физичка.
– Рекомендую. Не пожалеете…
– Сомневаюсь, Брамфатуров. Если он выдает такие перлы о Достоевском…
– Так ведь он не к нам адресуется, Эмма Вардановна, а к своим американским читателям. Скажи он что-либо подобное об «Обломове» вашего любимого Гончарова, его бы все пятьдесят штатов на смех подняли. Ибо с американской точки зрения, у Ильи Ильича, кроме лени, научиться нечему. А только лень они бы в этом романе и увидели. Прочее им было бы недоступно. Тогда как у Достоевского, который официально ставил занимательность выше художественности, никто из героев сиднем не сидит, все в движении, в душевной смуте, в деловой заботе, проповедуют, прожектерствуют, скандалят…
– И все это натянуто, суетливо, многословно, безвкусно и нудно…
– Встречный вопрос, Эмма Вардановна: это вы или Набоков?
– Объяснись, не поняла…
– Я имею в виду авторство высказанной вами оценки болезненного гения нашей классики.
– Ну, разумеется, я! – воскликнула физичка, но тут же спохватилась, заинтересовалась, сбавила тон. – А что, Набоков тоже не был в восторге от Достоевского?
– Почему «не был»? Он и сейчас в своем Монтре от него не в восторге. Мокрого места от бедняги не оставил. Особенно этого сноба коробит от сцены, в которой Раскольников и Соня Мармеладова читают главу из Евангелия от Иоанна о воскресении Лазаря. Он считает эту сцену низкопробным литературным трюком. В ней нет ни художественно оправданной связи, ни художественной соразмерности, поскольку преступление Раскольникова описано во всех гнусных подробностях, и автор приводит множество различных его объяснений. Тогда как сцены, в которых Соня занимается своим ремеслом, совершенно отсутствуют. То есть читатель имеет дело с типичным штампом. Он должен верить автору на слово. Между тем настоящий художник никогда не опустится до того, чтобы ему верили на слово…
– По-моему, очень даже убедительно!
– А, по-моему, не очень. Набоков углубился непосредственно в тему, а ведь есть еще и периметр. При желании в этом сравнении блудницы с убийцей можно различить иную связь. Контекстуальную, например. Или подтекстуальную. Ведь ни Соня, ни Раскольников не являются теми, кем они автором заявлены. Равным образом это относится к «вечной книге», то есть к Библии, которая вовсе не вечная… Эпизод с мнимым воскрешением мнимого Лазаря это только подтверждает. Все дело в вере: Соня верит, что она проститутка, Раскольников – что он убийца, Христос – что он Сын Божий, автор – что он написал замечательный роман, читатель – что он читает шедевр мировой литературы. И так далее. Иначе говоря, сближая «убийцу и блудницу» Достоевский вольно или невольно опровергает эти определения. Можно изменить фокус оптики анализа: если Раскольников и убил, то сделал это невольно, точнее, подневольно. Если Соня и сделалась проституткой, то исключительно в силу неблагоприятных обстоятельств, самое неблагоприятное из которых, – святая воля ее создателя – автора романа. Далее неизбежно придем к методу «остранения» от Шкловского… Можно возразить Набокову и прямо «по существу». Христианский Бог простил не только блудницу, но и убийцу, или, по крайней мере, обещал прощение, если тот раскается. Причем сделал это уже будучи на кресте… Впрочем, существует более простое и внятное оправдание нашего «жестокого таланта». Цензура, общественное мнение и собственные моральные убеждения не позволили автору дать соразмерное описание «падения» Сони, то есть сцену плотского греха, сопоставимую со сценой убийства. Отсюда – крен, антихудожественная связь и прочие преступления против высокого искусства литературы, за которые его беспощадно критиковали современники и упрекают потомки. Так, например, Тургенев назвал Достоевского прыщом на носу русской литературы, за что и удостоился чести быть выведенным в «Бесах» в образе Кармазинова. Плеханов ставил ему в вину, что каждый угнетенный в его романах обязательно хоть немного сумасшедший. Андрей Белый издевательски восхищался силой Федора Михайловича, благодаря которой он смог вынести до конца бремя собственного безвкусия. Набоков же выразился еще категоричнее: «Обратное превращение Бедлама в Вифлеем, – вот вам Достоевский».
– Постой, ты хочешь сказать, что читал Набокова?
– Обижаете, Эмма Вардановна! Набоков, Борхес и Беккет – мои литературные наставники от словесности двадцатого века. Вы можете, конечно, возразить: а как же Джеймс Джойс? И я вам отвечу: Джойс, безусловно, превосходный писатель, но нарочитой усложненностью своих текстов он нарушает баланс между чтением как трудом и чтением как удовольствием. Особенно он перебарщивает с этим в «Поминках по Финнегану»… Кстати, Эмма Вардановна, – перебил Брамфатуров сам себя, – обратите внимание на нашего будущего медалиста. Он же руку себе вывихнет, до того ему не терпится ученым физическим словом с вами поделиться…
– А если он литературным словом хочет со мной поделиться? Может, он тоже Набокова читал…
– Ну что вы, Эмма Вардановна! Набоков не входит в учебную программу, следовательно, абсолютно бесполезен в деле соискания академических отличий, правда Седрак? – И Брамфатуров, не давая раскрыть рта вскочившему Асатуряну, замолвил за него словечко: – Урок он выучил, Эмма Вардановна. Пятерку хочет. Зря учил, что ли… Хоть бы один разочек хватило совести у этого Седрака попроситься отвечать, не выучив урока!
– Не выучив? – вздрогнул отличник. – Зачем?
– А затем, чтобы пострадать и очиститься!
– Ты неправ, Владимир, – вступилась за будущего медалиста учительница. – От чего ему очищаться? Вот побриться ему действительно не помешало бы…
Улыбки юношей, чьи подбородки еще не познали губительного воздействия бритвы, одобрили последнее замечание педагога.
– Как от чего? Разумеется, от скверны академического превосходства над ближними.
– Правильно Вова говорит, – поддержал Брамфатурова Купец из задних, естественно, рядов. – Пусть хоть один раз двойку схватит, тогда мы его зауважаем. А то, как автомат: пять, пять, пять. Сколько можно!
– Между прочим, – ткнула Маша Вову в тощий бок острым локотком, – я тоже отличница.
– «Ик» и «ца», – разные вещи, Машенька, – интимным шепотом, но просветительским тоном объяснил Брамфатуров. – Девушке не пристало плохо учиться. Более того, чем женственнее девушка, тем выше у нее оценки. Покажи мне хотя бы одну симпатичную двоечницу, если не веришь…
Бодрова обернулась к классу и задумчиво его оглядела.
– Можно, Эмма Вардановна? – гнул свою линию Асатурян, сгорая от нетерпения поскорее выложить весь выученный урок.
– Эмма Вардановна, да поставьте вы ему его несчастную пятерку, пусть успокоится. Что такого он может поведать вам о физике, чего бы вы не знали?
Класс с подлинным энтузиазмом воспринял это предложение. С задних парт даже раздались решительные требования – «пятерку Седраку Асатуряну», интонационно очень напоминавшие «Свободу Юрию Деточкину!» из известного фильма.
– А ты, Брамфатуров, можешь чего-нибудь такого мне поведать?
– Чего бы вы не знали? О физике? Конечно, нет!
– А о чем можешь?
– О литературе, о философии, об истории, о футболе, о любви, о жизни и смерти. Кажись, всё…
– Да, негусто, – вздохнули в классе.
– Действительно, не Бог весть, – улыбнулась физичка. – Но даже на этот скудный перечень у нас, боюсь, не хватит времени. Поэтому, давай-ка, Брамфатуров, поведай нам все, что знаешь о физике.
– Как? Вообще всё? То есть всё-всё-всеё, Эмма Вардановна?
– Именно. Не думаю, что это займет больше двух-трех минут, – подтвердила учительница под общее одобрение класса свою педагогическую просьбу. Причем Седрак под шумок одобрения изловчился незаметно показать Брамфатурову язык.
– Выйти к доске или обойдемся без официоза?
– Лучше с ним.
– Ладно. Только учтите, Эмма Вардановна, мысли человека стоящего, сидящего и лежащего ощутимо рознятся.
– Учту. Начнем с тех, которые приходят тебе в голову, когда ты стоишь…
– А закончим возлежанием? Интересно, на чем?
– Брамфатуров, не дерзи, – посоветовала физичка.
– В смысле – дерзай? То есть выйди, встань лицом к аудитории и взгляни в честные глаза одноклассников бесстыжими гляделками невежды? Выхожу глядеть, ребята, срочно придавайте вашим взорам честное выражение. Кто не успеет, я не виноват…
И он действительно вышел, встал, вгляделся и как бы в скобках, как бы между прочим осведомился:
– А что мы сейчас по физике проходим?
Это очень смахивало на банальную школярскую клоунаду. И какая-нибудь другая учительница на месте Эммы Вардановны потеряла бы на этом терпение и, выставив «неуд», отправила б клоуна восвояси. Но Эмма Вардановна была не обычной учительницей, педагогических институтов не кончала, учительствовать стала по велению хреновых обстоятельств; по профессии же была физиком, о чем свидетельствовало и место ее проживания: физический городок близ Института физики имени Алиханяна. К тому же к обоим братьям Брамфатуровым питала слабость. Однажды, перед долгими летними каникулами даже посоветовала своему классу прочитать за лето хотя бы «Братьев Брамфатуровых»… то есть, тьфу ты, «Братьев Карамазовых», конечно… Возможно, именно эта роковая оговорка и положила начало пересмотру ее отношения к Достоевскому…
– Вообще-то мы динамику проходим, Брамфатуров. Но пусть тебя это не смущает. Твое задание шире: что имеешь в голове о физике, то и выкладывай. А мы оценим…
– По двухбалльной системе, – мстительно вставил Седрак и, услышав безошибочную реакцию класса на острое словцо, потупился, зарумянившись от неведомого дотоле удовольствия.
– Про динамику я, кажется, тоже что-то помню, – неуверенно молвил отвечающий.
– Отрадно слышать это «тоже». Обнадеживает. Если ты, конечно, не путаешь динамику с тбилисским «Динамо».
Как говорится, гы-гы-гы, в смысле, ха-ха-ха изо всех глоток. Столь редко проявляющееся остроумие учителей нуждается в поощрении, желательно – шумном.
– Постараюсь, – покладисто улыбнулся Брамфатуров и, напрягши дырявую память юности, выдал примерно следующее:
– Если не ошибаюсь, существует всего три основных типа динамической теории. Учение о твердых протяженных атомах, для которого соответствующим аппаратом является теория импульса. Вторая теория – это учение о всепроникающей жидкости, своего рода современная теория об эфире, для которой создала необходимый аппарат, по крайней мере, частично, теория электричества. И третий тип – это учение о непротяженных центрах силы, действующих на расстоянии, учение, которое математически оснастил сэр Исаак Ньютон в своей книге «Математические начала натуральной философии»…
Брамфатуров замолчал и вопросительно взглянул на учительницу: не помирает ли та со смеху над его памятью. Но та не помирала.
– Еще я помню, Эмма Вардановна, – продолжил экскурс в загашники Мнемозины, подбодренный отсутствием обескураживающей реакции нерадивый ученик, – что всё в физическом мире (в отличие от мира ментального) существует относительно наблюдателя, что два элемента, имеющие одно и то же атомное число, называются изотопами, что самый простой из известных атомов водород состоит из одного протона, и что кинетическая энергия частицы суть половина массы, умноженная на квадрат скорости…
– Это всё? – не скрывая слабой надежды на благополучный исход, вопросила физичка.
– Нет, оказывается, еще не всё, – удивляясь самому себе признался Брамфатуров. – Продолжать?
– О физике? – уточнила на всякий пожарный училка.
– За точность не ручаюсь, но, по-моему, о ней…
– Ладно, выкладывай…
– Мне тут ненароком вспомнилось, что уже упомянутый мною Ньютон, впервые введший в науку понятие массы, использовал тавтологию: масса есть мера таковой, определяемая через плотность и объем, – тогда как понятие плотности не может быть введено без объяснения того, что такое масса… А еще я набрел в извилинах своих на какие-то фундаментальные положения квантовой механики: на «корпускулярно-волновой дуализм», на «принцип неопределенности», которые абсолютно несовместимы с простой логикой, что почему-то вовсе не мешает лазерам работать…
Отвечающий умолк, перевел дух и, видимо, хотел на этом закончить свой ответ улыбкой облегчения, но вдруг погрустнел, задумался, пробормотал что-то нелицеприятное о какой-то Музоматери и поведал извиняющимся тоном:
– Эмма Вардановна, можете мне не верить, но мне в придачу ко всему еще и специальная теория относительности вспомнилась, будь она неладна!..
– Брамфатуров, полегче с проклятиями! – строго одернула зарвавшегося ученика слегка обескураженная учительница. – И объясни нам, что ты имеешь в виду, говоря о специальной теории относительности. Формулу вспомнил?
– Если бы только её! – вздохнул ученик. – Так ведь я еще и суть ее в словесном выражении вдруг в памяти освежил… Пожалуйста, не перебивайте, пока еще чего похуже мне не вспомнилось!.. Итак, специальная теория относительности ставит перед собой задачу сделать законы физики одинаковыми по отношению к любым двум системам координат, движущимся относительно друг друга прямолинейно и равномерно, для чего необходимо принять во внимание два вида уравнений: уравнения ньютоновской динамики и уравнения Максвелла. При этом последние не изменяются в результате трансформации Лоренца, но требуют определенных корректировок… Уравнения на доске написать или все же не стоит, Эмма Вардановна?
Брамфатуров вопросительно умолк, как бы разделив с классом его озадаченное молчание. Седрак Асатурян лихорадочно листал учебник физики, стремительно приближаясь к окончанию учебного года. Физичка позволила себе сделать редкостное исключение из правил – закурить на уроке.
– Ладно, Брамфатуров. Сам напросился… Нет, писать ничего пока не надо. Просто поведай своим потрясенным одноклассникам и об общей теории относительности, и, прежде всего о том, чем отличается общая от специальной.
– Насколько мне известно, математической оснащенностью конкретной физической проблемы. Специальная теория эту проблему полностью разрешила, чего нельзя сказать об общей теории относительности. Что не удивительно, если учесть, что автор общей теории относительности, великий Альберт Эйнштейн, был плохим математиком и главные формулы специальной теории, мягко говоря, слизал с частного письма великого математика Анри Пуанкаре, который потом до самой своей смерти не простил Эйнштейну этого воровства… A propos, этот Пуанкаре считал, что научные законы представляют собой произвольные соглашения, то есть конвенции, служащие для наиболее удобного и полезного описания соответствующих явлений. Лично мне теория Пуанкаре кажется более убедительной, чем физикализм Карнапа с его символической логикой…
– Не уводи нас в сторону, Брамфатуров, из физики в философию…
– Иначе говоря, не иди на попятную, – повеселел вдруг отвечающий. – Ибо, как говаривал старина Джон Локк: «Смысл философии заключается в том, чтобы остановиться, как только нам начинает недоставать светоча физики»…
– Золотые слова! У тебя всё?
– Всё! Почти… Если только вы, Эмма Вардановна, не станете напрягать мою память по части Рудольфа Клаузиуса, создателя первой теории термодинамики, в которой еще не было и не могло быть понятия о тепловом движении атомов и молекул, что неминуемо приведет меня к попыткам воскресить в памяти все, связанное с Людвигом Больцманом, введшим в науку атомизм. А это, скорее всего, закончится неудачей, потому что вспоминать эту его формулу, определяющую энтропию с точки зрения информации о состоянии атомов и молекул, для меня, человека насквозь гуманитарного, умственно расхлябанного, математически неполноценного, и скучно и грустно…
– Действительно, куда как веселее верить в конвенционализм, как ортодокс в Троицу, – торжественно заключила преподавательница. После чего прошлась к форточке, избавилась от окурка, вернулась, обратилась к классу:
– Предоставляю вам решить, какой оценки заслуживает Брамфатуров.
– По физике? – насторожился класс.
– По ней, родимой, – вздохнула учительница.
– Эмма Вардановна, а об Эйнштейне он правду сказал?
– Что касается специальной теории относительности – правду. А насчет взаимоотношений Эйнштейна с Пуанкаре, врать не буду, не знаю. Знаю, что в науке считается, что Пуанкаре пришел к открытию специальной теории относительности независимо от Эйнштейна примерно в одно с ним время. В каком году, Брамфатуров, не подскажешь?
– В 1906-м. Разрешите считать ваш вопрос первым дополнительным?
– Разрешаю, Брамфатуров…
– Тогда, скорее всего, правда, – пришли к неутешительному для Эйнштейна выводу девятиклассники. – И как ему было не ай-яй-яй! А еще великий физик, гений человечества…
– Не судите Эйнштейна слишком строго, ребята, он всего лишь следовал научной традиции. Небезызвестный Мопертюи, например, воспользовался своим положением президента Берлинской академии, чтобы приписать себе честь открытия принципа наименьшего действия, хотя великий Лейбниц сформулировал этот принцип за сорок лет до него. Только не спешите жалеть Лейбница, господа, этот двуличный философ не заслуживает снисхождения…
– Эмма Вардановна, – пожаловался Седрак, – его опять занесло в философию…
– Не меня одного, Асатурян, – не замедлил с оправданиями отвечающий, – Ньютона, например, заносило еще дальше, аж в богословие. Так что своим современникам он больше был известен не как автор гравитационной теории, а как комментатор Апокалипсиса. Если верить Вольтеру, этим комментарием сэр Исаак явно хотел успокоить род человеческий относительно своего над ним превосходства… Кстати, Эмма Вардановна, мне тут в связи в вашими нападками на конвенционализм Эйнштейнова лямбда вспомнилась. С ней-то как быть? Разве не для удобства родил ее Эйнштейн, чтобы хоть как-то объяснить, почему Вселенная до сих пор не съежилась в одну точку, а заодно, чтобы уравнять члены в своей формуле?
– Ты знаешь о лямбде Эйнштейна? Откуда? – недоверчиво прищурилась физичка.
– Опять вы меня обижаете, Эмма Вардановна! Я же рассказывал вам, что с третьего по пятый класс собирался стать астрономом… Кстати, хорошо, что напомнили. Внимание, девятый «А»! Нижайшая просьба: не спрашивать меня, откуда я всё то или это знаю. Давайте условимся, что всё, что я знаю, я знаю оттуда – от Верблюда с большой буквы. Того самого, который изображен на пачке сигарет Camel…
– Это что же получается? – задался вопросом Татунц. – Кури Camel – академиком станешь?
В ответ смешки и неудачные попытки сострить в тему, типа «Соси «Памир» – завоюешь весь мир!» Или: «Если куришь ты «Opal», значит, будешь генерал!»
– По-моему, ты, Татунц, перепутал изображение на пачке сигарет с ее содержимым, – ревниво заметил Седрак Асатурян, у которого для ревности было, по крайней мере, целых две причины. Первая: он сам втайне мечтал сделаться когда-нибудь академиком. И вторая: являлся принципиальным противником табака, равно как и алкоголя вкупе с добрачными половыми связями…
– Седрак совершенно прав, – поддержал отличника Брамфатуров. – Я имел в виду верблюда, а не, упаси Боже, турецко-американский табак…
– Вот и славно, – закрыла дискуссию физичка. – Надеюсь, вопрос исчерпан?.. Тогда перейдем к исчерпанию того вопроса, который задала я: Какой оценки заслуживает Брамфатуров за свой ответ по физике?
– Брамфатуров достоин пятерки, – подала голос Маша. – Но надо сначала удостовериться, понимает ли он, о чем говорит, или просто так повторяет то, что случайно запомнил.
– О, женщины, коварство ваша суть! – то ли процитировал, то ли дошел своим умом до эпохального обобщения Брамфатуров.
– Не надо нам ни в чем удостоверяться! – запротестовали иные из одноклассниц, очевидно, уязвленные восклицанием. – Большинство отметок ставится именно за память. Учил, помнишь, садись, пять. Эмма Вардановна, поставьте Вове пятерку. Вон сколько он всякой всячины по физике помнит!
– Вот именно, что всякой всячины…
– А то, что он помнит то, что мы еще не проходили, разве ничего не стоит?
– А вы ему еще дополнительные вопросы задайте, Эмма Вардановна, – поделился умом Седрак.
– О чем?
– А вот об этом самом Больцмане. Пусть формулу вспомнит. Если правильно вспомнит, тогда можно будет и четверку ему поставить…
– Ш-ш-ш, – зашипели на мудреца глупые девы. – Предатель, завистник, обормот, – определили они же.
– Эмма Вардановна, – заныл Брамфатуров, – о Больцмане не интересно, в лом. Лучше давайте я вам о сингулярности, из которой возникла Вселенная, немножко расскажу… Впрочем, если вы настаиваете…
Брамфатуров развернулся на сто восемьдесят градусов – лицом к доске, задом к классу, – секунду-другую полюбовался легкими клубами табачного дыма, вспыхнувшего всеми оттенками сизого, лилового, фиолетового в конусе внезапного солнечного лучика, вырвавшегося из-за туч, шагнул к доске, сердито застучал по ней мелом: S = k In W max.
– Ladies and gentlemen, you can see on the black desk the formula of Ludwig Boltzmann, – полуобернувшись к аудитории, заунывным голосом приступил к объяснениям Брамфатуров. – If you insist I can explain it in detail[6]…
– Hey, guy! – опомнился первым будущий калифорнийский житель Артур Гасамян. – We don’t insist to details[7]…
– Bless you[8], – кивнул Брамфатуров, однако тут же спохватился, устремил взгляд на инициатора дополнительного вопроса о Больцмане. – Mister Asaturian, have you any objections?[9]
К чести отличника следует сказать, что он почти не растерялся, хотя и имел по английскому языку, как собственно и по всем прочим предметам, твердую пятерку.
– No, – произнес он с простительной запинкой, – I have not. – И немедленно воззвал к справедливости: – Эмма Вардановна, это нечестно! Даже в наших английских школах физику проходят на русском или армянском языках!..
– Но формулы везде пишутся одинаково, – возразила физичка. – Или ты, Седрак, нашел в ней ошибку?
– Откуда мне знать, Эмма Вардановна? Мы же это не проходили. А он еще и объясняет ее на английском. Это нечестно! Пусть объяснит по-русски.
– Да будь я и чукча преклонных годов,
И то без унынья и лени
Английский бы выучил только за то,
Что им нам поёт Леннон!
– приняв соответствующую позу горлопана и главаря, гордо заявил Брамфатуров.
– Ой, это же Маяковский! – воскликнул, придуриваясь, Борька Татунц. – Откуда он мог знать про «Битлз»?
– Как говаривал Жак Кокто, Le poéte, mon pettit, se souvient de l’avenir, – поэт помнит будущее, – сияя самодовольной улыбкой, поднял назидательно указующий перст главный персонаж.
– Эмма Вардановна, это просто анахронизм, – заныл Асатурян. – Да он сам этот стишок выдумал, лишь бы про Больцмана не объяснять!..
– Не анахронизм, а контаминация, невежда, – строго поправил отличника троечник. – А тебе, Седрак, абы о ком послушать – только бы английский не учить! Ну что ж, уговорил. Будет тебе Больцман на русском языке…
– Не надо про Больцмана! – запротестовало несколько встревоженных голосов. – Не будем забегать вперед! В следующем году расскажешь… А сейчас лучше расскажи нам о жизни, о любви, о смерти, о философии, истории, футболе…
Эмма Вардановна сидела, улыбалась и не вмешивалась.
– О смерти? – оживился отвечающий. – Запросто! Тем более, что смерть и энтропия, к которой относится формула Больцмана, в определенном смысле являются синонимами. Итак, во-первых, не стану утомлять вас немецким оригиналом Райнера Рильке, процитирую сразу перевод: Смерть велика, мы все принадлежим ей с улыбкой на устах. Когда мы мним себя средь жизни, она вдруг может зарыдать внутри нас… Иначе говоря, точнее, говоря словами Томаса Стерна Элиота: Земля наш общий лазарет, Небеса – наша мертвецкая. Вывод: смерть есть способ транспортировки с этого света на тот…
– И обратно? – попытался еще раз сострить вошедший во вкус Седрак.
– Обратно, это уже не смертью называется, а… как Машенька?
– Воскресением, – усмехнулась Бодрова.
– Вот именно! Стыдитесь, Седрак Амазаспович! В вашем щекотливом положении претендента на драгметалл в таких вещах необходимо разбираться!
– Я знаю, что никакого того света нет! – огрызнулся стыдимый.
– Забавно, забавно, Седрак Амазаспович. Может, вы станете утверждать, что и этого света не существует?
– Никакой я не Амазаспович!
– Ну вот, так и думал! Этого и опасался! Ни того света нет, ни этого не существует, и сам он – не Амазаспович. Может, ты и не Седрак вовсе, а какое-нибудь единственно сущее мировое «Я»? Ну, знаете ли, господин пятерочник, это уже слишком! Это уже не что иное, как воинственный солипсизм какой-то. Ничего кругом нет, а есть только вы, господин Асатурян, который, плюс ко всем нашим бедам, еще и не Амазаспович…
– Я этого не говорил! Ты всё… я… ты… – Отличник так много имел что возразить, и такой разительной силы были его возражения, что он не знал с какого начать, и едва не плакал от мучительной широты выбора.
– Ладно, Брамфатуров, оставь Асатуряна в покое, – пришла на помощь будущему медалисту Эмма Вардановна. – А вы там прекратите ржать, это кабинет физики, между прочим, а не конюшня… Так вот, Владимир, я, к примеру, тоже считаю, что того света нет, а есть только этот. Интересно, как ты докажешь обратное…
– Что есть тот, а нет этого?
– Не передергивай, Брамфатуров! И не разводи демагогию. Ты прекрасно понял, что я имела в виду.
– Прошу прощения и возможности исправиться.
– Исправляйся.
– Исправляюсь. Я не стану утомлять вас онтологическим, космологическим, физико-теологическим и даже этическим доказательствами существования Бога, причем не только потому, что сам в него не верую и нахожу эти доказательства ничуть не более убедительными, чем те, которые приводит в одном анекдоте ученик грузинской школы в ответ на требование учителя доказать, что дважды два четыре, но и потому, что не вижу логически оправданной связи между существованием Бога и наличием того света…
– Вов, не будь сволочью, не морочь нам головы неизвестными словами, – попросили с задних парт. – Лучше расскажи анекдот! Это преступно – утаивать от общественности доказательства грузинского школьника!..
– Кто это сказал? – нахмурилась физичка. – Неужели Вардан Ваграмян?
– Кто? Я? Я вообще молчу с самой перемены!
– А кто?
– Я сказал, Эмма Вардановна, – мрачно признался Грант, вставая.
– А-а! Тогда все в порядке. А то мне показалось, что это Вардан. Хотела четверкой его наградить…
– За что? – оживился Чудик.
– За грамотно построенную русскую фразу… Но раз это не ты, а Похатян…
– Я это был, Эмма Вардановна! Я! Похатян все врет! Это я сказал грамотную русскую фразу!
– Правильно, это он, Чудик, сказал. Я вру, – поддержал обвинителя обвиняемый. – Поставьте ему четверку, Эмма Вардановна…
– Поставлю, если повторит то, что он якобы сказал. Что ты сказал, Вардан?
– Я? Кому?
– Брамфатурову.
– Ну-у, сказал, что… это… что так нехорошо, не по инкеравари…
– Не по инкеравари[10], говоришь? – угрожающе переспросила учительница и, вооружившись ручкой, застыла в выжидательной позе: еще одно неверное слово и ровно половина обещанной награды окажется в соответствующей графе напротив соответствующей фамилии с именем: Ваграмян Вардан.
– Ребята, что я сказал? – прошептал Чудик шпионским шепотом, не разжимая губ, одним носом.
– Грант, Грант, Грант… – прошелестел эхом сострадательный ветерок по кабинету.
– Вот! Вспомнил! – обрадовался Вардан, получив по срочной доставке шпаргалку с грамотной русской фразой. – Я сказал, – Чудик еще раз скосил глаза в клочок бумажки и уверенно продолжил, – что общественность устает от его домогательств, – последнее слово Варданчик прочитал по складам под общий всеми силами сдерживаемый смех этой самой общественности.
– Сам придумал или кто подсказал?
– Я подсказал совсем другое, – оправдывался Грант, – он все перепутал…
– Лично? – не унималась училка.
– Не надо мне никакой четверки, Эмма Вардановна! – махнул рукой на свою успеваемость Варданчик. – Это не я сказал. Я только хотел анекдот послушать…
– Назло поставлю! – заявила вдруг Эмма Вардановна. И поставила. Действительно четверку, о чем поведал большой палец Гасамяна, сидевшего на первой парте впритык к учительскому столу.
– Можешь продолжать, Брамфатуров. Только встань с подоконника…
– О чем? О том, что в критических точках раздвоения термодинамических ветвей должна быть обеспечена тождественность малых возмущений?
– Нет, не об этом! – вздрогнул класс. – Ты анекдот хотел рассказать.
– Политический?
– Арифметический.
– А, – несколько устало отреагировал Брамфатуров, – вы все о том же. Дался вам этот глупый анекдот. Ну как еще грузин может доказать, что дважды два – четыре? Почти также, как армянин или русский. Вся разница в словоупотреблении. Грузин скажет: «Мамой клянусь, четыре!» Армянин заявит примерно то же самое, упоминая вместо мамы ампутацию собственного носа. Русский кратко и доходчиво сообщит: «Мля буду, не больше четырех!» Что-то не слышу вашего дружного одобрительного хохота…
Справедливости ради, следует отметить, что смешки в классе все же раздались, чувство юмора не совсем оставило 9-а.
– Весьма оригинальное доказательство бытия Божия и существования того света. Садись, Брамфатуров, четыре так четыре…
И тут, перекрывая разноречивую реакцию аудитории, вскочила с места Лариса Мамвелян, комсомольская активистка, член родительского комитета, староста класса, и вообще особа честная, бойкая, всюду сующая свой милый носик. Вскочила и заявила примерно следующее. Что-де Эмма Вардановна напрасно идет на поводу у завистливых мальчишек, которые потому и сбивают Брамфатурова, что завидуют ему, в особенности его эрудиции, умению интересно говорить, а также доскональному знанию автомата, который он разбирает и собирает быстрее всех в классе, если не во всей школе…
– Спасибо, Ларисонька, за лестное мнение обо мне, но я вынужден с тобой не согласиться. Эрудиция моя сродни курской аномалии: она однобока и переменчива. А что касается автомата, то завидовать тут нечему. Все знают, что отец у меня офицер, кому же, спрашивается, и разбираться в орудиях смертоубийства, как не сыну того, кто обучен убивать профессионально? Вот у Павлика Зурабяна папа – оперный певец, и если Павлик прочтет нам лекцию о вокале, опере и трудностях заучивания наизусть идиотских либретто, вроде Пиковой Дамы или Евгения Онегина, никто ни удивляться, ни тем более завидовать ему не станет. Я правильно, ребята, излагаю?
– Почти, – сказали одни.
– Пусть лучше Павлик расскажет, сколько его отец за утро сырых яиц выпивает, – не согласились с отдельными положениями другие.
– Три, – сказал Павлик. Покраснел и добавил, – яйца.
– Значит, Чайковского мы тоже не любим, как я поняла? – вмешалась и подавила посторонние звуки Эмма Вардановна.
– Чайковского любим. Опер его не любим. Не его это было дело – оперы сочинять. Тем более на такие пошлые либретто: Лиза утопилась, Герман застрелился. Бездари несчастные! Беспардонно воспользовались тем, что любую глупость можно спеть!.. Единственное, что можно слушать в Евгении Онегине – это увертюра…
– А в Пиковой Даме?
– Ее вообще лучше не слушать. И не смотреть. Лучше Пушкина почитать… Как зрелище опера не смешна и не нелепа только итальянская и только в Италии.
– Как?! А Моцарт?!
– Гениальное исключение, подтверждающее правило.
– А «Ануш» Тиграняна? – вмешался патриотичный Ерем.
– При всем моем уважении к Тиграняну, я, к сожалению, не могу со-причислить его к исключенному из правила Моцарту. Совесть не позволяет…
– Какая-то неармянская у тебя совесть, Брамфатуров! – вынес вердикт Ерем. – Впрочем, что с тебя, перевернутого полу-армянина, и требовать!..
– Անշնորհք[11], – зашипели на патриота одноклассницы, а сидевшая неподалеку Лариса не поленилась дотянуться до предплечья отчизнолюбца и как следует это предплечье ущипнуть.
– Ерем, – сказал Купец, – ври да не завирайся! – И, понизив голос, но не внушительность тона, добавил: – Хотел бы я, чтобы таких перевернутых полу-армян было побольше! Между прочим, Вова уже второй урок подряд за всех нас отдувается. Или ты сегодня физику выучил? Так чего скрываешь? Скажи, попросим Эмму, вызовет…
Ерем, пылавший румянцем от противоречивых чувств, не огрызался и не оправдывался: молчал, уставившись в пространство.
– Ладно, ребята, уймитесь. Я не в обиде на арийца Никополяна. Его можно понять: чистота расы – святое дело! Самыми чистыми из существующих сегодня рас являются пигмеи, готтентоты и австралийские аборигены.
Тасманцы, чья раса, вероятно, была еще чище, уже вымерли…
Эмма Вардановна прыснула. Класс облегченно захихикал.
– Разрешите ваше благодарное «хи-хи» считать адресованным истинному автору приведенного мною мнения, лорду Бертрану Артуру Уильяму Расселу. Кстати, этот английский аристократ, по совместительству философ, логик и математик (Если кому-нибудь подвернется его фундаментальный труд «История Западной философии», обязательно прочтите, не пожалеете…
– А сам-то читал?
– На наглые вопросы отвечаю наглым молчанием.) высказался довольно определенно и о патриотизме. Но, прежде чем процитировать его, проведем предварительный блиц-опрос. Итак, кто из вас гордится тем, что он (она) армянин (армянка)? И без подсчета поднятых рук ясно, что все армяне очень этим обстоятельством гордятся. Но среди нас присутствуют не одни армяне. Кто из вас, товарищи неармяне, гордится тем, что он неармянин?.. Никто, как и следовало предполагать. Из этого можно заключить, что те, кто гордятся тем, что они армяне, имеют для своей национальной гордости кое-какие основания, поскольку заведомые неармяне отказываются гордится тем, что они не… Они, пожалуй, склонны гордится тем, что они – русские, – правда, Маша, Оля, Галя, Игорь?.. Однако национальный состав нашего класса не исчерпывается всего двумя нациями. У нас, слава Богу, даже китаец имеется. Пусть только по отцу, но все же китаец… Артур Янц, скажи нам честно, как на духу, ты гордишься тем, что ты китаец? Разреши твою сардоническую усмешку считать проявлением твоей национальной гордости, а также отсутствием таковой в связи с твоей непринадлежностью ни к армянам, ни к русским, ни к чукчам, ни даже к тибетцам?.. Very well, guy![12] Теперь поставим вопрос иначе: острее и принципиальнее. Милостивые государи, кто из вас, армян, русских и китайцев, гордится тем, что он не турок? Предупреждаю: каждого, кто не поднял руку, я автоматически зачисляю в славные ряды великого турецкого народа… Ну вот, видите какое трогательное единогласие – просто лес рук. На турках все сошлись, невзирая на свою национальную гордость. Полное единодушное благоволение и растворение интернациональных воздухов…
– Ты, Брамфатуров, профессиональный провокатор-затейник, – рассмеялась одиноким смехом Эмма Вардановна.
– А что, – согласился с ней Брамфатуров, – звучит неплохо, я бы не отказался. Только в каком вузе таким дипломом можно разжиться?
– А сам ты, Брамфатуров, гордишься тем, что ты армянин по отцу или хотя бы, что русский по матери? – не снес Ерем полной неопределенности в столь важном вопросе. – Или ты у нас такой умный, что стоишь выше этого? Считаешь себя гражданином мира, да?
– Я не выше, Ерем, я ниже. Мне никак своим утлым умишком не понять, почему я должен гордиться тем, что родился кем-то – армянином, русским, китайцем, англичанином… Ведь не мы выбираем, родиться нам или нет. Не мы решаем где, когда, у кого, при каких обстоятельствах, с каким набором хромосом душевного склада и генов характера… Наш выбор ограничен нашим изначальным бесправием. Если бы Господь или Мойры или неисповедимый случай (неубедительное вычеркнуть) заранее поинтересовался моим мнением, я бы предпочел не рождаться, ни в этом мире, ни в том, остаться своего рода Богом Скотта Эриугены, который утверждал, что Бог есть никто и ничто. Ведь быть кем-то – значит не быть всем остальным. А когда ты никто и ничто, ты – всё, кем можно быть и кем нельзя, в том числе, нельзя онтологически… Я не слишком замысловато излагаю, друзья?
– Не слишком, – всхлипнула Карина Нерсесян, – только очень грустно…
– Постараюсь поизощреннее. Пушкин как-то воскликнул: «Черт догадал меня родиться в России с умом и талантом!» Думается, проживи поэт подольше, сподобься побывать за границей, куда так рвался, он бы несколько пересмотрел свое восклицание: сжал бы его до крайней определенности и законченности, и выглядело бы оно в итоге так: «Черт догадал меня родиться!» И всё. Больше ни слова… Кстати, «Илиада» Гомера именно об этом повествует – о полном бесправии человека, о чем был прекрасно осведомлен Менелай, благородно простивший Елену, ибо понял: она была всего лишь игрушкой в руках безжалостных богов…
– А о чем в таком случае «Одиссея», Брамфатуров? – поинтересовалась Эмма Вардановна.
– О любви.
– К странствиям?
– И об этом тоже, хотя странствия эти в начале – вынужденные, а где-то с середины – следствие возникшего чувства между простым смертным Одиссеем и небожительницей Афиной Палладой. Одиссей не смеет ей признаться в своей любви, а она высокомерно заблуждается на собственный счет, полагая, что испытывает к этому смертному всего лишь покровительственную снисходительность. Правда привела бы Афину в ярость. Так они странствовали лишних десять-пятнадцать лет, бессознательно ища приключений, дабы продлить во времени и пространстве свое общение. Не могла небожительница так плохо знать географию, как прикидывалась Афина. А у хитроумного Одиссея наверняка имелся компас, которым он нарочно не пользовался…
– Сам придумал или где-то прочитал?
– Честно говоря, не помню, Эмма Вардановна. Да и так ли уж это важно в контексте изначального нашего бесправия?
– Ерем! – вдруг вскричал Брамфатуров неожиданно и грозно, так что Никополян даже привстал. – Ответь нам честно: что лично ты сделал, какие труды положил на то, чтобы родиться армянином, вот таким вот чистокровным как ты есть: сероглазым, русоволосым, носатым, умным, трудолюбивым, любознательным?
– Я? Ничего, – горестно признал Ерем, не обращая внимания на подлые смешки, спровоцированные описанием внешнего вида древних армян, на которых он походил не больше, чем Пушкин на былинного славянина. – А ты, Брамфатуров, сам что-нибудь сделал, чтобы родиться тем, кем родился? – перешел он в атаку.
– И я, Ерем, тоже ничего не сделал. Какое удивительное совпадение, не правда ли, Никополян? Может быть, еще и поэтому Бертран Рассел утверждает, что разделение людей на нации является тривиальной глупостью. Заметь, Ерем Хоренович, не какой-то там особенной или выдающейся, а тривиальной. Ведь нация, народ – это, прежде всего, общность предрассудков, и лишь потом все стальное – язык, территория et cetera[13]. Национализм, как ртутные пары, – только в микроскопических дозах может быть полезен, в любых иных он отравляет напрочь весь организм, в первую очередь – разум. Следовательно, долг честного человека – защитить свой разум от патриотизма…
– И что ты предлагаешь, Брамфатуров, – вмешалась учительница, – вместо конкретной родины любить весь шар земной и изъясняться исключительно на эсперанто? Ведь существуют такие понятия, как «семья народов» или «сообщество стран», которые отнюдь не исключают особого отношения к своей стране, любви к родине…
– Действительно, Эмма Вардановна, такие понятия существуют: абстрактно, отвлеченно, как правда у Луначарского, которой дела нет до плачевной конкретики, ибо она вся в пропагандистском движении, в агитационном полете… Наверное, исходя именно из такого положения вещей, Бертран Рассел и ратует за то, чтобы мы научились беспристрастно оценивать любой спор между своей и чужой страной, чтобы научились не считать свой народ морально выше по отношению к другим, и даже во время войны смотреть на все проблемы, как могла бы смотреть нейтральная сторона…
– Нейтральная сторона будет смотреть, исходя из своих нейтральных интересов, – сказал Артур Янц и непримиримо сверкнул очками.
– Очень верно подмечено, – с готовностью согласился Брамфатуров. – Точнее было бы со стороны Рассела сказать: как мог бы смотреть Бог, или отец семейства на ссору своих детей… Кстати, заметь, Ерем, я специально воздерживаюсь от цитирования Сэмюэла Джонсона, который о патриотизме выразился куда нелицеприятнее и определеннее, нежели Бертран Рассел…
– Ерем, заткни на минутку уши, – попросил класс и, не дожидаясь исполнения Еремом своей просьбы, продолжил: – Валяй, Вов!
– O. K. if you insist, – пожал плечами Вов, и выдал, то бишь вывалил:
– Patriotism is the last refuge of scoundrel.
– Как? И всё? А перевод? – возмутился класс.
– Патриотизм – последнее прибежище подлеца.
Класс замер. Щеки Никополяна пошли боевыми пятнами.
– Вряд ли Джонсон, живший в восемнадцатом веке, имел в виду кого-то из наших современников. Скорее всего, он сделал вывод из наблюдений над патриотами своего времени. К слову сказать, это было одно из самых любимых изречений Толстого…
Щеки Никополяна двинулись обратным маршрутом – из безоглядного милитаризма в бдительный пацифизм, что, впрочем, никоим образом не сказалось на твердости его убеждений. Этот парень отличался не только повышенной возбудимостью, но и решительным упрямством. Недаром из трех беглецов, доставленных в ленинаканское отделение КГБ для снятия соответствующих показаний, один лишь Ерем подвергся физическому воздействию со стороны допрашивавшего его майора. Довел-таки беднягу чекиста до пароксизмального забвения заповеданной чистоты рук, сподобился-таки вкусить от органов отеческой пощечины. Известное дело, осел нуждается либо в палке, либо в морковке. Но попадаются среди них такие, которые морковки терпеть не могут, а выяснить, какой другой овощ мог бы заменить отвергнутую морковь, у погонщика нет ни времени, ни охоты, ни разумения.
– Все равно, Брамфатуров, я с тобой не согласен, – не сдавался Ерем, нервно поигрывая крышкой парты.
– Не со мной, а с Бертраном Расселом, Самюэлом Джонсоном и Львом Толстым, – уточнил Брамфатуров.
– А с ними тем более! Эти англичане всегда загребали жар чужими руками. Но они не армяне, а ты все-таки армянин… Я думаю, что на самом деле ты так не думаешь, как говоришь. Ты просто хочешь произвести впечатление… Думаешь, я забыл, как ты тогда, на демонстрации в честь «Арарата» кричал «Иштоян», «Հայեր»[14]…
– Боюсь ошибиться, но сдается мне, что это комплимент. А судя по тому, как ты трясешь крышку парты, можно предположить, что если я его не приму добровольно, ты заставишь меня сделать это силой…
– Это некрасиво, Брамфатуров! – вмешалась Лариса. – Ты, зная нервный характер Ерема, специально его провоцируешь!
– Кто нервный? – возмутился Ерем. – Я нервный? – хлопнул он крышкой парты, сел, вскочил, вновь сел, опять хлопнул и снова оказался на ногах. – Я не нервный, я просто немного вспыльчивый…
– Вот именно, – подтвердила Эмма Вардановна автодиагноз Ерема. – Не увиливай, Брамфатуров, от ответа по существу. Ерем привел конкретные доказательства…
– Ну да, куда уж конкретней! – огрызнулся Брамфатуров. – Такие доказательства римляне называли argumentum ad hominem, то есть доказательства, основанные не на объективных данных, а рассчитанные на чувства убеждаемых…
– Humanum non sunt turpia[15]! – возразил Седрак Асатурян.
– Contra verbosos noli contendere verbis[16], – предостерег фьючерсного медалиста Артур Янц.
– Sermo index animi[17], – напомнила учительница.
– Quot hominas, tot scientiae[18], – рассудил Боря Татунц и, горделиво выпятив грудь, скосил глаза на новенькую.
– Plaudite, cives![19] – торжественно заключил Брамфатуров.
– А по-русски можно? – не вытерпела Лариса. – У нас тут все-таки русская школа, а…
– А не кружок латинистов, – подхватил Грант.
– А еще лучше – по-армянски, – робко предложил Чудик Варданян, но поддержки не встретил.
– А здорово было бы устроить такой кружок, – мечтательно молвила учительница физики. Впрочем, тут же сама себя и осадила: – Только кто его будет вести?
– Вот Брамфатуров пускай и ведет. Он же у нас всё знает, – раздался не идентифицированный голос с задних рядов.
– Только не знает, как объяснить, почему он кричал «Иштоян» и «չայեր», – живо откликнулся подуспокоившийся в процессе древнеримской перепалки Ерем.
– Странно было бы мне в этой толпе кричать «Блохин» и «Хай живе рiдна Україна». И потом, давно и не мною замечено, что следует иногда разрешать несчастным смертным не согласовывать свои взгляды с чувствами. Разумеется, это не касается тех уникумов, которые подобно тебе, Ерем, сумели сотворить из своих чувств мировоззренческие догматы веры. У большинства же, к которому, увы, принадлежу и я, ум всегда в дураках у сердца.
– Ну вот, наконец-то мы докопались до истины, – подытожила дискуссию Эмма Вардановна. – Любви, как и кашля, не утаишь…
– Эмма Вардановна, можно вопрос Брамфатурову?
– Дополнительный по физике? Или провокационный по межнациональным отношениям?
– Личный.
– О, это интересно! Задавай.
– Вов, ты не устал там стоять?
– То есть, не устал ли я купаться в лучах всеобщего внимания? Нет, Кариночка, не устал. Но если тебе хочется поменяться со мной местами, я возражать не стану…
– Ой, только не это!
– А зря, Кариночка, зря! Фигурка у тебя обворожительная, ножки стройные, глаза – как два озера, полные тайн. Твоим одноклассникам было бы полезно посозерцать красоту в немом и благодарном восхищении…
– Звучит как признание в любви, – мрачно заметил Грант Похатян.
Нашлись инфантилы, встретившие этот не лишенный ноток ревности комментарий идиотским смехом. Карина, зардевшись сперва от удовольствия, стала неудержимо пунцоветь, но уже как бы от смущения, стыда и обиды.
– Дурак! – сказала она Гранту. После чего перевела взгляд на Брам-фатурова и пополнила перечень недоумков. – Два дурака. – Далее: дробно стуча каблучками, спешно покинула кабинет физики.
– Эмма Вардановна, можно выйти? – не столько спросил, сколько поставил в известность о своих намерениях Грант Похатян.
– Бегом, Похатян! И не забудь извиниться…
– Грантик, – понеслась вдогонку не страдающая избыточной искренностью просьба, – и за меня, дурака, пожалуйста, тоже…
Похатян в ответ ничего не сказал, не кивнул, только взгляда удостоил, прежде чем скрыться в дверном проеме.
– Храни, Голубица,
От града – посевы,
Девицу – от гада,
Героя – от девы!
– возведя очи горе и молитвенно сложив на груди руки, продекламировал с чувством взгляда удостоенный.
– Вот и до Марины Цветаевой добрались, наконец, – не скрывая удовлетворения, сообщила классу Эмма Вардановна.
– А кого это она там гадом называет? – заподозрил неладное Купец.
– Ничего личного, Рач-джан, – поспешил с разъяснениями Брамфатуров. – Take it easy. Не бери в голову. Библейские мотивы. Голубица – Богоматерь. Девица – Ева. Гад – змий, соблазнивший ее отведать от плода запретного. Ну а герой – конечно же, Адам, из ребра которого Господь создал Еву, как жену ему и помощницу. Вот она и помогла в меру сил: запретным плодом накормила, Божье проклятие на весь род людской навлекла. Потому и просит поэт Голубицу хранить девицу от гада, а героя – от девы…
– А посевы причем? – въедливо полюбопытствовал Седрак.
– Это обобщение: хранить людей от Божьего гнева, который, согласно народным поверьям, зачастую выражается в форме губительных осадков…
– При этом все стихотворение называется для большей ясности «Георгий», – рассмеялась Эмма Вардановна. – Ну чем тебе Цветаева не угодила? Сделал из нее сплошную аллегорию!..
– Аллегория, Эмма Вардановна, – один из первородных грехов литературы, и, если верить Гилберту Честертону, вовсе не настолько чужда искусству слова, и уж тем более не является утомительным плеоназмом и игрой пустых повторений, как полагал Бенедетто Кроче. Отнимите аллегорию у Данте и получите на выходе нагромождение уродств. То же самое можно сказать в отношении иных стихов Цветаевой…
– Каких именно, Брамфатуров? – требовательно вопросила физичка.
– Да вот хотя бы следующих:
Выбрала сама я долю
Другу сердца моего:
Отпустила я на волю
В Благовещенье его.
Да вернулся голубь сизый,
Бьется крыльями в стекло.
Как от блеска дивной ризы,
Стало в горнице светло.
В классе одни впечатлительные личности решились на аплодисменты, другие – на пресыщенное ворчание ценителей поэтического слова: дескать, опять голуби, опять Пикассо, опять пернатые символы мира…
– Не спешите ворчать, погодите хлопать, – предостерегла их бдительная училка. – То есть хлопать можете, только знайте, что аплодируете не
Марине Цветаевой, а Анне Ахматовой.
– Ой, – сказал резонер, декламатор и чтец, – дико извиняюсь, ошибочка вышла. Сейчас вспомню что надо.
И действительно – вспомнил, правда, лишь после краткой, но жаркой мольбы в сторону, произнесенной скороговоркой невнятным для непосвященных шепотом («О, прекраснейшая из титанид, дщерь Уранова, всеблагая Матерь Муз великих! Сподобь вспомнить должное, дабы не осрамиться мне!»):
– Должно быть, жизнь и хороша,
Да что поймешь ты в ней, спеша
Между купелию и моргом,
Когда мытарится душа
То отвращеньем, то восторгом?
Непостижимостей свинец
Всё толще над мечтой понурой, —
Вот и дуреешь наконец,
Как любознательный кузнец
Над просветительской брошюрой.
Пора не быть, а пребывать,
Пора не бодрствовать, а спать,
Как спит зародыш крутолобый,
И мягкой вечностью опять
Обволокнулся, как утробой.
На сей раз ни оваций, ни брюзжаний. Все смотрели на учительницу, дожидаясь подтверждения либо развенчания заявленного авторства. И оно последовало незамедлительно.
– Это не она. И не другая. Но стихи хорошие. Признавайся – чьи?
– А мне казалось, что Цветаевой, – впал в недоумение чтец, косясь с укоризной в сторону. – Что, действительно не её?
– Не переигрывай, Брамфатуров!
– А, ну тогда, скорее всего, Владислава Ходасевича…
– Честно?
– Ей-ей, Эмма Вардановна. Жаль, что я некрещеный, а то бы перекрестился и воскликнул: «Видит Мнемо… то есть Бог, не вру!»
– Ну что, – обратилась училка к классу, – поверим ему на слово, ребята, или пусть еще одно стихотворение Ходасевича прочитает, а мы сравним?
– А что там сравнивать? – не удержался Чудик Варданян не пожаловаться на тягомотину. – Чарара́-ра – чарара́… Лучше бы анекдот какой-нибудь рассказал…
На него зашикали со всех сторон, обозвали неуком, дураком, невеждой, бескультурным типом и другими нехорошими, принятыми в приличном обществе, словами. Один только сосед по парте, Рачик-Купец, никак не обозвал, а ткнул в бок и объяснил на доходчивом армянском конфиденциальным шепотом всю глупость его поведения, потому как до конца урока осталось всего ничего, нового уже не зададут, старый спросить не успеют, так какого ляда ты возникаешь, вместо того, чтобы сидеть, помалкивать и тихо радоваться жизни…
– Сравним, сравним! – настаивали между тем энтузиасты немедленной атрибуции.
– OK, compare:
Webster was much possessed by death
And saw the skull beneath the skin;
And breastless creatures under ground
Leaned backward with a lipless grin[20].
Продолжить ему не позволили протестующие возгласы с мест: «Это нечестно!», «Долой перевод, даешь оригинал!», «Кончай выпендриваться!» и «Այ տղա, հերիք չեղա՞վ մեր հոգու հետ խաղաս»[21].
– Брамфатуров, не хами, – проникновенно попросила Эмма Вардановна.
– Ну вот, двух эмигрантов уже и перепутать нельзя, – надул губки Брамфатуров. – Сразу в хамы записывают… Ладно, будет вам Ходасевич:
По дому бродит полуночник —
То улыбнется, то вздохнет,
То ослабевший позвоночник
Над письменным столом согнет.
Черкнет и бросит. Выпьет чаю,
Загрезит чем-то наяву.
…Нельзя сказать, что я скучаю.
Нельзя сказать, что я живу.
Не обижаясь, не жалея,
Не вспоминая, не грустя.
…Так труп в песке лежит, не тлея
И так рожденья ждет дитя.
– На этот раз вроде как не надул, – поскреб в затылке Седрак.
– Ты уверен? – не скрывая скепсиса, спросила Эмма Вардановна.
– Я понял! – возопил сущим Архимедом Сергей Бойлух. – Это он свои стихи под видом чужих нам подсовывает!
– Ты мне льстишь, Бойлух. Где Кура, где мой дом!..
– Идея! – осенило еще одного, на этот раз Артура Гасамяна. – Давайте свяжем его и подвергнем пытке. Сразу признается, чьи стихи он нам вместо чьих втюхал!
– Без шума и пыли не получится, – тоном профессионального сноповязальщика протянул Виктор. – Здоровый лось…
– Ну хорошо, хорошо, уговорили: вспомнил я, чьи это стихи. Георгия Иванова. Но если вам так загорелось послушать мои шедевры, то ради Бога, у меня ведь совести практически не осталось. Только, чур, потом не жаловаться на мои ча-ра-ра…
Отравлен хлеб, и воздух выпит.
Как трудно раны врачевать!
Иосиф, проданный в Египет,
Не мог сильнее тосковать!
Под звездным небом бедуины,
Закрыв глаза и на коне,
Слагают вольные былины
О смутно пережитом дне.
Немного нужно для наитий:
Кто потерял в песке колчан,
Кто выменял коня – событий
Рассеивается туман.
И, если подлинно поется
И полной грудью, наконец,
Всё исчезает – остается
Пространство, звезды и певец!
Кто-то поморщился, кто-то снисходительно похлопал. Борька Татунц впился в физиономию чтеца, ища ему одному ведомые мимические приметы очередного розыгрыша. Все прочие выжидательно уставились на учительницу. Все, кроме сердобольной Ларисы, не удержавшейся от похвал, слегка сдобренных конструктивной товарищеской критикой.
– А что, – сказала она, – совсем неплохо для его лет. Правда не совсем понятно, причем тут Иосиф, почему туман не рассеивается, а рассеива́ется, да и «конь событий», по-моему, не слишком удачный образ, но в целом…
– В целом, – подхватила физичка, – бесподобно! Гениально!
Класс с любопытством следил за Эммой Вардановной, не понимая, но догадываясь, что расточает похвалы она неспроста. Между тем учительница, встала, вышла из-за стола, и сделала легкий приглашающий жест чтецу:
– Осип Эмильевич, присядьте, пожалуйста. Не обессудьте, что раньше не догадалась предложить, но кто же мог подумать, глядя на вас, что вам не шестнадцать лет, а все восемьдесят с хвостиком… Дети, встаньте и поприветствуйте замечательнейшего русского поэта Осипа Мандельштама!
– Какая же ты, Вовка, сволочь! – произнесла с чувством Лариса Мамвелян и, упав грудью на парту, закрылась руками.
– Ничего себе – урок физики, – прокомментировал происходящее Артур Янц. – Две женских истерики, две явные мужские обиды, не считая десятка тайных, и весь день на манеже провокатор-затейник: шуточки, прибауточки вперемешку со стихами и беспорядочным центоном…
– А это уже камешек в мой огород, – задумчиво отозвалась Эмма Вардановна. – Очень жаль, что для тебя, Артур, не прозвучало за весь урок ничего нового…
– Нового прозвучало, Эмма Вардановна, – признался Янц, – форма подачи меня не устроила…
Провокатор же затейник тем временем приблизился к парте с горюющей Ларисой, опустился на колени и негромко, почти вполголоса, заговорил с ней:
Только б ты согласилась. Только б ты приказала.
Ты моя королева! Ну об чем разговор?!
Комнатенка три на три станет тронною залой,
Пред тобою склонится заоконный твой двор.
И соседние страны отощают от стрессов,
И расстроятся браки барышам вопреки,
И не будет отбою от знатных балбесов,
Возжелавших твоей королевской руки.
Хрен им! Всех этих принцев я повешу по стенам
И гульну в фаворитах – до смешного велик…
Но монархия все же дрянная система, —
Ни в одном королевстве нельзя без интриг.
Так и есть! Вон уж сплетню на ощупь пустили…
Ах ты зависть людская! Ах, дворянская блажь!
Комнатенка три на три покруче Бастилии,
А за окнами дворник – бесчувственный страж.
– Если и эти не твоими окажутся, я… я не знаю, что я с тобой сделаю, Брамфатуров! – сообщила Лариса, хлюпая носиком и моргая мокрыми глазками.
– Вообще-то, все лучшее в мировой поэзии, Ларисонька, принадлежит Единому Духу. Все худшее – дьяволу. А поскольку эти стихи не то и не это, значит, они принадлежат мне…
– Не кокетничай, Брамфатуров. Очень даже неплохие стихи. Правда, Эмма Вардановна?
– Правда, – согласилась учительница. – Я их тоже слышу впервые. И насколько понимаю, они никому, кроме него, не могут принадлежать. Разве что его брату… Но он еще мал для таких… Впрочем, для пущей уверенности тебе следует поинтересоваться мнением Артура Янца.
– Учитель говорил: Бывает, появляются ростки, но не цветут; Бывает, цветут, но не дают плодов, – невозмутимо, как и подобает китайцу, ответствовал Янц на этот не слишком педагогичный выпад.
– Бывает, что дают плоды, но лучше бы не давали, – подхватил все еще коленопреклоненный затейник, и, наморщив лоб, присовокупил: – Конфуций, «Лунь Юй»…
– Я так и подозревал, что ты все цитаты либо перевираешь, либо дополняешь на собственный лад, – сказал Янц.
В дверь постучали, постучав, открыли, открыв, вошли. Примиренная парочка. Пока еще не сладкая, но обещающая стать таковой, если ничего непредвиденного не случится.
– Можно, Эмма Вардановна?
– Мо… – открыла было рот училка, но была прервана неучтивым возгласом Гранта.
– Ну вот, что я тебе, Карина, говорил! Полюбуйся: он уже на коленях перед Ларисой красуется! А ты переживала, что зря обидела…
– Грант прав, – не меняя позы поддержал Похатяна Брамфатуров, – не все дураки, осознавшие свою дурость, перестают быть дураками. Попадаются, Кариночка, среди них такие дурни, что сколько свою дурость ни осознают, дураками быть не прекращают… А ты, Артур, можешь торжествовать: я опять кого-то переврал или дополнил. То ли Владимира Ильича Ленина, то ли немецкую народную мудрость…
– Брамфатуров, как долго ты собираешься пребывать в этой нелепой позе? – поинтересовалась физичка.
– Пока Лариса не простит или звонок не грянет. Епитимья у меня такая. Сам на себя наложил…
Не успела Лариса простить его, как грянул звонок.
– Брамфатуров, Асатурян, Янц, Никополян, Лариса Мамвелян, ко мне с дневниками. Остальные свободны…
5
Следовательно (лат.).
6
Дамы и господа, перед вами на доске формула Людвига Больцмана. Если вы настаиваете, я могу объяснить подробно… (англ.).
7
Эй, парень! Мы не настаиваем на подробностях… (англ.).
8
Благодарю вас (англ.).
9
Мистер Асатурян, у вас нет возражений? (англ.).
10
Искаженное «не по товарищески», от армянского «ընկեր» – товарищ.
11
Невежа. Точнее: бесстыжий невежа (армян.).
12
Отлично, парень! (англ.).
13
И так далее (лат.).
14
«Армяне» (армян.).
15
Человеческое не постыдно (лат.).
16
В спор с краснобаем вступать – словами на ветер бросаться (лат.).
17
Спор – показатель ума (лат.).
18
Сколько людей, столько и мнений (лат.).
19
Рукоплещите, граждане! (лат.). (Традиционное обращение актеров к публике после представления.)
20
Ладно, сравнивайте:
Вот Уэбстер, смертью заворожен —
Его из гулкой темноты
Влекли безгрудые созданья,
Безгубые манили рты. (англ.).
(Из стихотворения Томаса Стерна Элиота «Аромат бессмертия», перевод В. Шубинского)
21
Эй, парень, не буди лиха! (армян.).