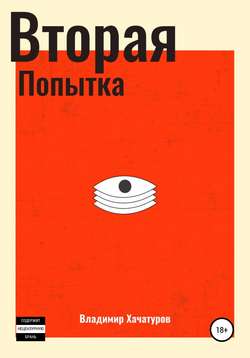Читать книгу Вторая попытка - Владимир Хачатуров - Страница 6
Часть первая
Возвращение блудного сына
Контрольное сочинение
ОглавлениеКак уже упоминалось выше, кабинет русского языка и литературы располагался в непосредственной близости от служебного кабинета директрисы. Столь тесное соседство объяснялось не только вечной административной занятостью Арпик Никаноровны, но и философской основательностью ее походки (не путать с монументальной поступью иных рядовых учительниц). Казалось, директриса вознамерилась опровергнуть на практике разом обе антиномические истины: апорию Зенона об Ахиллесе и черепахе, и народную мудрость «тише едешь – дальше будешь». Впрочем, апологеты, без которых немыслимо никакое начальство, утверждали, что все это глупости, что ни о каких эмпирических опровержениях спекулятивных истин не может быть и речи, а может – только о мудром следовании древнему правилу: «поспешай медленно»[53].
Как бы там ни было на деле в действительности, но в прошлом учебном году, когда еще не существовало кабинетной системы, то есть когда учителя ходили к ученикам в гости (а не как ныне, когда неприкаянные ученики, обремененные поклажей портфелей и верхних одежд, кочуют на переменах в поисках пристанища), Арпик Никаноровна не всегда успевала вовремя достичь классной комнаты 8-го «а», находившейся, не далеко не близко, аж на втором этаже противоположного крыла главного учебного корпуса. Бывало только войдет, только поздоровается с ликующим от радостной и долгожданной встречи классом, как уже звенит звонок, урок окончен и пора ей, горемычной, оправляться восвояси несолоно хлебавши. А тем временем гениальный Пушкин, великий Лермонтов и бесподобный Гоголь остаются для ребят совершенно непонятными, неразъясненными, а некоторым так и вовсе неведомыми. Но это еще полбеды, полная беда, – что заполняя ожидание разговорами, иные из учеников пытались по-своему, не сообразуясь с рекомендациями РОНО, ГОНО и лично Министерства просвещения, прочесть, понять и интерпретировать отдельные произведения гениальных классиков. Особенно усердствовал в этом Брамфатуров, – мальчик, безусловно, начитанный и неглупый, но склонный к отвлеченным умствованиям неконтролируемого содержания. Сама лично Арпик Никаноровна ничего почти из этих умствований не слышала. Но, естественно, нашлись добрые люди, примерные ученики, сознающие свой долг перед преподавателем, и сообщили, и просветили, и поведали в подробностях. Волосы у директрисы от этих подробностей дыбом не встали исключительно благодаря хорошему качеству лака, которым она пользовалась. Однако делать организационно-административные выводы, основываясь, пусть и на достоверных, но все – же слухах, подробных, но доносах, Арпик Никаноровна не стала. Из принципа. Если бы компетентные органы в 1938 году руководствовались схожим убеждением, то отец ее, – видный профессор-математик, – не сгинул бы на стройках социализма в тундрах Сибири… Каждый обвиняемый заушно должен быть выслушан лично и наказан согласно совокупности конкретных обстоятельств, а не предполагаемой вины. Так считала Арпик Никаноровна. И надо сказать, такое благородство особенно шло ее мало подвижному, но выразительному лицу.
Брамфатуров был вызван, что называется, на ковер и обстоятельно допрошен. Согласно его же личным показаниям, он не говорил о Пушкине, что-де «вот был великий человек, а пропал, как заяц», а нес этот вздор агент царской охранки Фаддей Булгарин. Выяснилось также, что клерикальная интерпретация «Послания в Сибирь» тоже не принадлежит ученику 8-го «а» класса ***девятой средней школы Брамфатурову Владимиру, но самым преестественным образом вытекает из содержания означенного стихотворения. Будто бы не абы какую, а именно эсхатологическую свободу предрекает Александр Сергеевич своим друзьям-декабристам, отбывающим срок за неудачную попытку последнего в истории России дворцового переворота[54]. Причем делает это в выражениях буквально дословно повторяющих пророчества Иоанна Богослова: «оковы тяжкие падут», «темницы рухнут», после чего Свобода вооружит их мечами для последнего и решительного Армагеддона. Мол, именно в виду весьма отдаленной перспективы такого исхода, поэт и призывает узников проникнуться тремя христианскими добродетелями: Верой («Храните гордое терпенье», ибо это и есть вера), Надеждой («Несчастью верная сестра») и Любовью («Любовь и дружество»)…
Пришлось директрисе давать немедленный отпор столь махрово-поповскому прочтению пушкинского шедевра: цитировать атеистические высказывания Александра Сергеевича, глухо намекать на «Гаврилиаду», красочно описывать духоту и маету реакционного царского режима, в общем, изо всех сил стараться вернуть заблудшую душу в лоно единственно верного диалектически-материалистического учения. Очень пригодились Арпик Никаноровне и сведения из истории религии, почерпнутые ею в свое время от деда-епископа. В частности, факт позднего включения в канонический текст Евангелий (да и то лишь под бешеным нажимом мракобесных монахов) так называемого Апокалипсиса, который по сути своей является ничем иным, как литературным памятником антиримской пропаганды. Вот!
Ну, вот или не вот, Брамфатуров, слава Богу, спорить не стал. Лишь с иронией заметил, что некоторые экзегеты относят факт позднего включения в текст Евангелий Откровений Иоанна Богослова на счет Провидения, которое якобы всячески препятствовало его ранней канонизации по причине глубоких сомнений в композиционной компетентности канонизаторов. Дескать, в противном случае эти Откровения могли оказаться как посреди Деяний, так и посреди Посланий, что непоправимо исказило бы Божественную архитектонику Нового Завета. Не ожидавшая подобной покладистости директриса, хотела было ограничиться взятием торжественной клятвы «никогда впредь и больше ни за что», да вовремя вспомнила о других классиках, также не избегших вопиющих умствований того же недоросля. О Лермонтове вспомнила. О Михаиле, об Юрьевиче. В частности, о его лирическом герое, которому было «И скучно, и грустно и некому руку подать в минуту душевной невзгоды», и так далее, вплоть до скорбного финала с его горькой констатацией жизни как пустой и глупой шутки, каковую, конечно же, следовало трактовать не расширительно – ибо жизнь сама по себе для поэта прекрасна, – но исключительно в применении к той отвратительной форме, что сложилась в 30-е годы прошлого века в николаевской России. Что, кроме идейной связи этого стихотворения с программной «Думой», и восхищения простотой выражения да естественностью и свободой стиха, мог вызвать этот шедевр в душе 14-летнего мальчишки, наверняка воображающего себя в душе Печориным?
Оказалось, много чего такого иного, что опять спасибо хорошему качеству лака для волос за нерушимость директорской прически. Хотя не скроем, был момент, когда казалось, что даже французской парфюмерии не справиться с напором слившихся воедино чувств: праведного негодования, изумленного ошеломления и нравственного возмущения. Подобную ересь впору выслушивать только лысым преподавателям словесности. Но не стричься же наголо из-за всякого литературного хулигана! Он, видите ли, полагает, что нет ничего ни в этом мире, ни в том, что не показалось бы пустой и глупой шуткой, если взглянуть на все на это (и то) так, как взглянул поэт, то есть с холодным вниманием. Быть может, архангел Сатанаил именно такого взгляда и удостоил излюбленное детище Господне – человека. В результате чего загремел в тартарары. Следовательно, холодное внимание взгляда суть дьявольское состояние души, весьма характерное для Лермонтова с его байроническим демонизмом. Тогда как небрежный, но, тем не менее, заинтересованный и сочувственный взгляд Пушкина, более Господу угоден, да и всем нам куда ближе и душеприятнее. Не случайно, Пушкин, будучи в том же 26-летнем возрасте, что и Лермонтов, когда последний сочинил разбираемое нами стихотворение, поэтически предвосхитил это лирическое событие гениальным советом:
Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, настанет.
Сердце в будущем живет;
Настоящее уныло:
Все мгновенно, все пройдет;
Что пройдет, то будет мило.
С выражением прочитав сей несомненный пушкинский шедевр, этот enfant terrible[55] пустился во все тяжкие ложного истолкования, поминая не к месту разных библейских персонажей, а именно царя Соломона, у которого на заветном кольце, оказывается, было выцарапано жалкой прозой примерно то же самое, что Александр Сергеевич запечатлел бессмертными стихами. Настойчивые попытки Арпик Никаноровны обратить внимание еретика на то, что он, быть может, сам того не желая, оказался по одну сторону классовых баррикад с реакционерами, травившими Лермонтова за его свободолюбивые антимонархические, антикрепостнические убеждения, в том числе за гениальное «И скучно, и грустно», успеха не имели. Даже, как всегда, к месту и ко времени процитированный Белинский (««И скучно, и грустно» из всех пьес Лермонтова обратила на себя особенную неприязнь старого поколения. Странные люди! Им все кажется, что поэзия должна выдумывать, а не быть жрицею истины, тешить побрякушками, а не греметь правдой!») не смог вернуть заблудшего отрока на стезю добродетели. Напротив, вызвал ряд не укладывающихся в голове критических замечаний о том, что он-де не видит большой разницы между любителями побрякушек и обожателями громовых раскатов, поскольку и те, и другие являются рабами собственных слуховых галлюцинаций. И что по здравом размышлении, он находит положение любителей побрякушек менее безнадежным, чем любителей громов, так как от последних можно вполне эстетически оглохнуть. Что, между прочим, и случилось с «неистовым Виссарионом» в пору его маниакального увлечения тем, что ему угодно было именовать «натуральной школой» – этим москательным отделом в мелочной лавочке реализма. Только эстетически глухой человек мог поставить Жорж Санд выше Бальзака, а Гоголя сопричислить к сатирикам и реалистам (все равно как считать Данте юмористом на том очевидном основании, что он является автором пусть и Божественной, но все же комедии). Между тем любому мало-мальски сведущему в словесности человеку уже из ранних сочинений Николая Васильевича было ясно, что кончит он религиозным мракобесием «Выбранных мест из переписки с друзьями» и творческой импотенцией второго тома «Мертвых душ». Для этого достаточно было вдуматься в финал повести о том «Как поссорились Иван Иванович с Иваном же Никифоровичем»: «скучно жить на этом свете, господа», – констатирует Гоголь, отчасти предвосхищая Лермонтова, но по большей части стараясь подвести читающую публику к инфернальному выводу, что на том свете жить куда как занимательней и веселее.
Ученика несло на волнах словоблудия все дальше, директрису трясло мелкой дрожью все амплитуднее, что губительным образом сказывалось на даре членораздельной речи: она его периодически утрачивала и вновь внезапно обретала. Так, когда этот юный демагог, софист, схоластик и резонер-негодник вдруг признал открытое письмо Белинского к Гоголю «благородным документом», дар речи вернулся к Арпик Никаноровне практически в полном объеме. Но когда этот фальсификатор и ревизионист-очковтиратель, затронув тему влияния древнегреческой литературы на русскую словесность, попутно заметил, что последней сиреной на свете была крыловская ворона от Эзопа, утратившая в результате эволюции столь бесполезные в новых демифологических условиях соблазнительные органы, такие, как женская грудь и привлекательное личико, но сохранившая главное свое достоинство – ангельский голосок, слухи о котором будто бы и подвигли любознательную лису просить ворону-сирену, отложив ужин, предаться вокалу (ибо наивная лиса не подозревала, насколько вкусы древних отличались от нашего скверновкусия), то дар речи надолго покинул бедную директрису, равно, как впрочем, и лису с вороной, взаимную обиду которых не дано было подсластить никакому сыру, будь то французский камамбер, итальянская горгонзола, грузинское гуди, или армянский чанах, наконец…
Но, как говорится, нет худа без добра (должно быть, поэтому добро не отваживается являться к нам без какого-нибудь худа). Административным итогом вызова литературного разбойника на ковер стало введение в следующем учебном году прогрессивной кабинетной системы. Отныне Арпик Никаноровна могла не оставлять ребят без строгого методического присмотра лицом к лицу со сложным, идеологически неоднозначным материалом, каким считается русская литература второй половины XIX века. Но что представлялось еще более важным, завиральным идеям Брамфатурова был положен педагогический предел. Попросту говоря, этому мальцу-удальцу отныне элементарно не хватало времени на то, чтобы навыдумывать и нагородить чепухи с ерундовиной. Только класс притихнет, сосредоточиться, навострит уши в предвкушении очередной порции несусветной отсебятины на ниве русской и мировой словесности, ан Арпик Никаноровна уже тут как тут, – еще не войдя полностью в кабинет, уже командует: «Брамфатуров, молчать! Марш на место! Здравствуйте, ребята!..»
Поначалу случалось, просили хором позволить Брамфатурову досказать начатое, мотивируя тем, что это и ей, Арпик Никаноровне, будет интересно послушать, в чем директриса сильно сомневалась, утверждая, что наслушалась этого Брамфатурова на всю оставшуюся жизнь. В том, что она не кривила душой, класс убедился в течение первой же четверти, в ходе которой Арпик Никаноровна ни разу не вызвала Брамфатурова для дачи устных показаний о пройденном учебном материале. Сколько последний ни тянул руки, сколько ни изощрялся в комментариях с места, официального полновесного слова ему ни разу не предоставили. Правда, при этом ничего, кроме пятерок, Арпик Никаноровна ему по литературе не ставила. Ну а по русскому языку – другое дело: там гоголем от демагогии не пройдешься, не покрасуешься, там только знания в цене, причем желательно точные… И Брамфатурову приходилось довольствоваться по русскому языку теми оценками, которые он действительно заслужил, а не вынудил путем софистического террора. А больше четверки он по грамматике редко когда чего-нибудь заслуживал. Вот так и получалось, что имея за содержание домашних и контрольных сочинений неизменную пятерку в числителе, в знаменателе он зачастую обнаруживал унизительную для такого всезнайки троечку.
Он, конечно, пытался с этим бороться, но каким-то, мягко говоря, странным образом. Вместо того чтобы, как это делают все порядочные ученики, стремящиеся исправить плохую отметку на лучшую, приналечь на учебники, не чуждаясь неизбежной в данных обстоятельствах зубрежки, он, наоборот, пустился во все тяжкие, пытаясь доказать, что для творческой личности, каковой он, Брамфатуров, несомненно, является, вериги, налагаемые грамматикой, слишком тесны и обременительны, что они-де подрезают крылья его вдохновению, и что вообще, если на то пошло, у каждого приличного автора своя грамматика, своя орфография, свое правописание, лексика, синтаксис, пунктуация, а коли что не так, на то есть корректоры и метранпажи… Et cetera et similis[56].
Поперваху Арпик Никаноровна, не ожидавшая столь оголтелой атаки на твердыню языка – грамматику, – даже слегка растерялась и даже позволила себе ввязаться в никчемную дискуссию о незыблемых основах образованности, об объективно-исторических особенностях того или иного языка, о том, что школьника, пишущего сочинение на заданную тему, можно считать автором лишь в очень условных пределах, поскольку автор по определению есть сложившаяся личность, постигшая не только азы, но и глубинную связь хитросплетений жизни – как на бытийном, так и на бытовом уровнях – с учебным материалом, и, стало быть, не подвергающая сомнению необходимость существования и функционирования последнего именно в той форме и в том сущностном содержании, в каком он исторически сложился… Однако краткое изложение Арпик Никаноровной отдельных тезисов своей некогда задуманной и в силу различных обстоятельств тогда же недописанной диссертации произвело эффект обратный ожидаемому. Вместо того чтобы удивиться, вдуматься, проникнуться, смириться и снять с повестки дня свои наглые претензии, этот enfant terrible, напротив, оскорбился в лучших чувствах и представлениях о самом себе и принялся с жаром доказывать, что он не какой-то там условный автор сочинений на заданную школьной программой тему, а самый что ни на есть доподлинный автор, которому приходится, подчиняясь возрастным предрассудкам общества, писать школьные сочинения на всякие малоинтересные темы, что, между прочим, негативно сказывается на его творческом духе, тормозя его саморазвитие в самовыражении. И в качестве доказательства попытался немедленно довести до сведения директрисы и всего класса один из своих перлов под названием «Последняя ночь Франсуа Вийона» с отвратительно легкомысленным эпиграфом:
Я – Франсуа, чему не рад:
Увы, ждет смерть злодея.
И сколько весит этот зад,
Узнает завтра шея.
Бурная реакция класса на эпиграф вывела директрису из заблуждения, что будто бы этому Брамфатурову можно что-то доказать, в чем-то переспорить или вообще удержать в общепринятых рамках эвристических приличий. И Арпик Никаноровна решила прибегнуть по отношению к возмутителю спокойствия к более жестким мерам, а именно вызвать в школу его отца, слывшего человеком строгим, справедливым, просвещенным хранителем традиций, культурным оплотом устоев, словом, военным. Что она и сделала. Однако обстоятельства сложились так, что когда отец Брамфатуров выкроил время для встречи с директрисой, последней пришлось вести речь не об его первенце, а о своем собственном непутевом младшем сыне. И хотя разговор в итоге получился плодотворным, с жесткими мерами в отношении первенца пришлось повременить. Иными словами, отложить до худших времен, которые не заставили себя долго дожидаться. Не успела третья, определяющая, четверть вступить в свою длинную колею, как Брамфатуров выкинул номер с побегом в Америку. Правда, он был не один, а в компании с Никополяном, но и дураку ясно, кто в этой провокационной вылазке верховодил… Разумеется, и у Арпик Никаноровны, как директрисы школы, возникли в связи с этим из ряда вон инцидентом кое-какие неприятности, но у майора Брамфатурова их наверняка появилось на порядок больше…
Почти недельное отсутствие виновника идеологической диверсии на уроках заронило надежду, что мальчик, наконец, осознает недопустимость своего поведения, возьмется за ум, перестанет ерничать, прекратит паясничать и постарается загладить свою вину отличной учебой вкупе с примерным поведением – словом, сделается достойным сыном достойного отца и достойным учеником достойнейшей из школ. И надежды эти в первый же день появления Брамфатурова на уроках стали вроде бы оправдываться: пятерка по НВП, пятерка по физике, пятерка по биологии, в конце концов, – все свидетельствовало в пользу исправления, взятия за ум и глубокого осознания случившегося. Арпик Никаноровна уже заранее тихонько под сурдинку ликовала (хотя, будучи реалисткой, нет-нет и одергивала себя от рецидивных проявлений былой романтичности), представляя какое политически грамотное, идеологически выдержанное сочинение способен накатать этот раскаявшийся грешник, дабы оправдаться перед вышестоящими органами: собственным отцом, дирекцией школы и органами государственной безопасности.
И ведь как все удачно сложилось: не какое-нибудь обычное классное сочинение, а общешкольное, общерайонное, а может быть, и общегородское контрольное. А это значит обязательное присутствие на уроке как минимум двух методистов из РОНО, призванных строго следить за чистотой соблюдения всех требований, важнейшее из которых – чтобы ученики только свои мысли сообщали бумаге, а не заемные, – из учебников, шпаргалок, подсказок. Поэтому на партах ничего, кроме личных авторучек, быть не должно. Все остальное доставят с собой методисты: и темы сочинений, и проштампованные грозными печатями двойные листки, как для беловиков, так и для черновиков, ибо сдаче на проверку подлежит все написанное. Рвать и метать в творческом порыве сочинительства категорически запрещается – дома надо было готовиться, учиться, мучиться, а на контрольном общешкольном сочинении будьте любезны спокойно, аккуратно и желательно грамотно изложить по доставшейся на вашу долю теме весь запас ваших знаний о ней. Сначала на черновике. Затем на беловике. И да поможет вам Бог, – в смысле, единственно верное учение Маркса-Энгельса-Ленина!
«Аминь», – подумали ученики, встали, поздоровались, сели и приготовились к худшему…
Все было организованно по высшему разряду, как в кино: командующему нарочный вручает сверхсекретный пакет, командующий расписывается в получении, распечатывает, засекая точное время, знакомится с содержанием, скликает командный состав, дает вводную… Арпик Никаноровна расписаться в получении расписалась, но времени засекать и командный состав скликать не стала, хотя вводную дала: велела Маше Бодровой изобразить на доске своим ясным почерком все три темы контрольного сочинения. Маша изобразила, дети прочли и некоторые из них, оборотившись к доске затылками, послали долгий, исполненный многоразличных чувств – в диапазоне от осуждения до восхищения – взгляд, адресованный, само собой разумеется, не дяденьке средних лет, который на пару с тетенькой примерно того же возраста доставил секретный пакет директрисе и теперь, уже не в качестве нарочного, а в должности особоуполномоченного представителя высших структур восседал на последней парте крайнего ряда бок обок с самим Брамфатуровым. (Для справки: тетенька нашла себе приют на второй парте первого ряда, так что вся пересеченная местность, насквозь просматриваясь и накрест прослушиваясь, пребывала под бдительным контролем.)
Дяденька, как то и полагается мужчинам средних лет недурственной наружности, находящимся при исполнении, в соответствующем это высокой миссии наряде общечиновного образца, сперва принял столь явно выказанное внимание на собственный счет, и не то чтобы возгордился или, наоборот, закомплексовал, скосив глаза на будто бы съехавший на сторону галстук, но как-то весь подобрался, приосанился, умудрившись при этом не утратить профессионально отсутствующего, сходу все секущего выражения лица. Но как он ни изощрялся в проявлении нордической сдержанности, всем глядящим сразу стало ясно, что в буфет он на перемене не наведывался и пророчеств своего соседа по парте о возможных темах контрольного сочинения не слыхал. Впрочем, оно и к лучшему, иначе заподозрил бы незнамо что, потому как пророчества сбылись самым, что ни на есть, досадным образом. За исключением третьей, свободной, темы, о которой девятиклассников особо предуведомили, что писать ее может любой, невзирая на доставшийся ему вариант, но получить высшую оценку в состоянии только Лев Толстой и Антон Чехов вместе взятые.
Итак, министерство просвещения по явному наущению Брамфатурова разродилось следующими обязательными темами контрольного сочинения:
I вариант. Новые люди в романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?»
II вариант. Тема маленького человека в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».
Свободная тема: Оглянись на себя.
Пророк отреагировал на свой триумф достаточно скромно: плечами пожал да губы скривил. Взиравшие отвернулись, пророк склонился над своими девственно чистыми (лиловые печати не в счет) листками и поспешил устранить это безобразие. «Черновик. Предполагаемые эпиграфы для беловика», – вывел он не дрогнувшей рукой, после чего слегка призадумался, чему-то улыбнулся и пошел строчить: «τοΰ λόγου δ’έόνιοs ξυνοΰ ζώουσιν οί πολλοί ώs ίδίαν έχουτεs φρόνησιν». I. p. 77. Fr. 2. (Heraclites).
И с красной строки: «The words are many, but the Word is one». G. K. Chesterton[57].
Поглядел на все на это, вновь порылся в памяти, просиял и опять заскользил разбойным пером по беззащитной казенной бумаге, выводя: «Habent sua fata libelli». Terentius Mauro[58]. Вывел и это, но перечитывать не стал, продолжил с красно строки, морщась в сомнениях – то́ ли память подбросила, что ему нужно?
«Je ne parlerai pas, je ne penserai rien». A. Rimbaud[59].
Передумал, зачеркнул, усмехнулся (черновик все-таки!), изложил другую французскую мысль, но на сей раз русским языком. Вероятно, для разнообразия.
«… если уничтожить все людские мечты и бредни, мир утратит свои очертания и краски, и мы закоснеем в беспросветной тупости». Анатоль Франс.
После чего обратился к особоуполномоченному за товарищеской помощью, интересуясь, какой из эпиграфов точнее выражает общую мысль и лучше выглядит графически. Особоуполномоченный покосился на листок неодобрительным оком, затем присоединил к нему второе, еще более мрачное, и воззрился на дерзкого школяра:
– Это контрольное сочинение. Самостоятельная работа. Подсказки исключаются. Так что на ваше усмотрение…
Дерзкий школяр кивнул, соглашаясь:
– Естественно на мое, но должен же я извлечь хоть какую-то пользу из того счастливого обстоятельства, что моим соседом на контрольном сочинении оказался не свой брат-двоечник, а просвещеннейший представитель высших педагогических сфер…
– Вы слишком много болтаете, – сухо заметил представитель высших сфер. – Можете не успеть…
– Двойку схватить я всегда успею… Впрочем, все равно спасибо, вы мне очень помогли!
– Каким образом? – вскинул брови методист.
– Самым что ни на есть деликатным. Отказавшись высказаться по существу, дали тем самым понять, что ни один из эпиграфов не имеет к заданной теме непосредственного отношения.
– Ничего подобного! – запротестовал уполномоченный. – Это вы сами так решили. Я ни о чем не умалчивал и ни на что не намекал!
– Брамфатуров, потише! – потребовала директриса.
– Здорово! – обрадовался Брамфатуров, переходя на заговорщический шепот: – Оказывается мы с вами однофамильцы, если не родственники! Скажите, как звали вашего дедушку по отцовской линии, часом не Мкртыч?
– Моя фамилия Дарбинян! – гордо уведомил уполномоченный. Шепот для выказывания гордости мало подходящ, но у методиста получилось: и шепотом, и гордо.
– А-а, мистер Смит из Смитсоновского института![60] – вроде как про себя заметил школяр.
– А вы, как я понял, классный клоун-провокатор?
– Почти угадали. Только не просто классный, а первоклассный. И не клоун-провокатор, а клоун-гуру. И в порядке ответной любезности рискну охарактеризовать вас как весьма отзывчивого, просвещенного и интеллигентного человека, который так и не усвоил амикошонской привычки тыкать незнакомым людям, в том числе даже школярам…
– Вы не можете знать, какой я человек, потому что видите меня впервые, – возразил ничуть не польщенный уполномоченный.
– Я знаю вашу фамилию, выкованную огнем и железом. Я знаю ваш герб – молот Тора. И я знаю, что род ваш древней древнейших наций. Вам есть чем гордиться, товарищ Дарбинян! Вы имеете полное право смотреть на остальных свысока, не скрывая снисходительной усмешки. Ибо следить за соблюдением школьниками правил игры РОНО, не менее поэтично, чем предаваться неистовой мощи кузнечного дела в какой-нибудь деревенской кузнице, как это делали ваши предки… Послушайте, мистер Смит, коль с эпиграфами у меня не заладилось, не обратиться ли мне к свободной теме, попытавшись совместить в моей скромной особе Чехова с Толстым, Пушкина с Гоголем, да и Маркса с Лениным, думаю, не помешало бы, а?
– Пишите что хотите, только не мешайте ни мне, ни себе, ни другим! – прошипел в сердцах представитель РОНО и демонстративно отвернулся от своего назойливого соседа. Но соседа не так-то легко было пронять.
– То есть как «что хочу»?! Вы данной вам властью разрешаете мне писать контрольное сочинение на любую тему, невзирая на те, что указаны на доске, я правильно вам понял?
Особоуполномоченный молчал, притворяясь глухим, немым, а возможно, еще и слепым и безумным в придачу. Но поскольку безумным он все же не был, то вскоре понял: этот клоун вполне может счесть его молчание знаком согласия, и, хотя впоследствии вряд ли сможет доказать, что ему лично им, товарищем Дарбиняном, было разрешено писать на любую тему, игнорируя официально утвержденные, но разговоров потом не оберешься, неприятный осадок останется, а это чревато, по меньшей мере, задержкой в карьере. Вот почему глухой услышал, немой отверз уста и, обернувшись к тому, от которого давеча столь решительно отвернулся, заговорил, имитируя строгим шепотом раздраженное шипение закипающего чайника:
– Выбор ваш ограничен: либо первый вариант, либо свободная тема, либо если вы не перестанете паясничать, удаление с урока!
– Вы не только интеллигентный и отзывчивый, но и даром убеждения обладаете, – прошептал уважительно клоун. – Уговорили. Всё. Возвращаюсь к своим баранам. То бишь к новым людям в романе Чернышевского «Что делать?», хотя назвать эту убогую агитку романом можно только в пылу идейного иконоборчества…
– Вам не нравится Чернышевский? – вдруг утратив склонность к партизанскому молчанию, живо заинтересовался методист.
– Мне не нравится «Что делать?», а лично к Николаю Гавриловичу, к этому аргонавту идеала, у меня минимум претензий, в основном касающихся его абсолютного невежества в искусстве слова. Но как личность я его даже немного уважаю. За святость. Именно из такого сорта людей в эпоху раннего христианства получилась великомученики, а во второй половине XIX века, в период зажравшегося православия, – пламенные революционеры-семинаристы. Юристы воспламенились позднее…
– Какие еще юристы? – вкрадчиво шепнул уполномоченный.
– В основном, неудавшиеся…
– Вы на кого намекаете?
– На Вышинского, который считал признание обвиняемого матерью доказательств, а презумпцию невиновности – буржуазным предрассудком. Правда, он был генеральным прокурором, но разве можно назвать его удавшимся юристом?.. А теперь, пожалуйста, успокойтесь и постарайтесь сосредоточиться на своей ответственной работе. Вас ведь сюда не праздно расспрашивать, а строго следить за соблюдением порядка прислали, или я, пардон, ошибаюсь?
– Ну ты и гусь! – задыхаясь от восхищения прошипел методист, изо всех сил удерживаясь от антипедагогического подзатыльника.
– Арпик Никаноровна, – поднял руку гусь. – Можно выйти?
– А ты что-нибудь написал?
– Почти две страницы.
– Интересно, когда же ты успел, если рот у тебя не закрывается?
– Рот болтает, а руки пишут, Арпик Никаноровна.
– Тоже мне Юлий Цезарь! – проворчал Ерем во всеуслышание.
Арпик Никаноровна одобрительно усмехнулась.
– Можно, Арпик Никаноровна?
– Нет, нельзя. Я ведь предупреждала: выходят только на перемене и только парами, причем пара должна состоять из учеников пишущих разные варианты, и пока вышедшие не вернутся, следующая пара никуда не выходит. Кстати, ты, Брамфатуров, как не имеющий пары, и сидящий на последней парте в последнем ряду, идешь в последнюю очередь…
– Арпик Никаноровна, вы необоснованно преувеличиваете верблюжьи свойства моего мочевого пузыря! Между прочим, я до шести лет страдал энурезом и внезапные рецидивы этой мокрой болезни отнюдь не исключены…
– Брамфатуров, вон из класса!
– Спасибо, Арпик Никаноровна, я по-быстрому…
– Нет, сиди.
– А как же энурез?
– Что?
– Мочевой пузырь…
– Вон из класса!
– Повторно благодарствуем…
И не давая опомниться, опрометью выскочил из помещения. И, разумеется, в ближайший туалет. А там задумался над струей: мать моя женщина, а где же у нас в школе библиотека находится?.. Вспоминал, вспоминал, ни шиша не вспомнил. Уже и в мочевом пузыре ни капли в разлив не осталось, а он все тряс свое хозяйство в задумчивом мнемоническом оцепенении…
Поэтому, выйдя в коридор, юркнул мимо кабинета русского языка и литературы в директорскую приемную, где скучала над пишущей машинкой секретарша Леночка, – бывшая выпускница этой же школы – лениво перепечатывая одной рукой диету американских астронавтов, ныне пользующуюся бешеным спросом в качестве «кремлевской».
– Hallo honey! Please tell me where is our school’s library?[61]
– Брамфатуров, тебя что, с урока турнули? С контрольного сочинения?!
– Что значит – турнули? Сам ушел. По делу…
– Покурить?
– И покурить тоже. Кстати, ты какие куришь?
– Новые. «Ереван». Угостили. Пробовал?
– Нет, но горю желанием, и как я понял, только ты, Леночка, можешь утолить его!
– Кого? – наморщила лобик Леночка.
– Желание.
– Какое? – продолжала она в том же духе непонимания.
– То самое.
– Խուժան՜ – все поняла она и тут же перевела свою праведную реакцию с армянского на русский: – Хулиган!
– А-а, ты в этом смысле! – дошло наконец и до хужана-хулигана. А как дошло, так немедленно отрыгнулось. Четверостишием:
Дева тешит до известного предела —
дальше локтя не пойдешь или колена.
Сколь же радостней прекрасное вне тела:
ни объятье невозможно, ни измена!
– Слыхала, слыхала о твоих подвигах, – сразу успокоилась Леночка. – И о поэтических, и в особенности о телепатических. Вся школа на ушах стоит. Учителя только про тебя и говорят: одни рассказывают, другие не верят… Вов, а это правда, что ты ответы на вопросы учителей узнаешь из их же мыслей?
– Неправда. К сожалению. Пробовал, ни черта не получилось. Они свои мысли экранируют методическими указаниями РОНО. Пришлось воспользоваться мысленными подсказками с мест…
– Серьезно?! – миндалевидные глазки Леночки округлились.
– Ты не представляешь, Леночка, как бы я хотел, чтобы это оказалось всего лишь шуткой, или на крайний случай антинаучным стечением обстоятельств. Но, увы! Горе мне, несчастному: мозг мой скоро совершенно атрофируется от отсутствия практики. Ведь читать чужие мысли, – не значит мыслить самому. Вот и сейчас сам не ведаю, что говорю, потому что мозги заняты твоими размышлениями…
– Моими размышлениями?! – глаза секретарши наглядно продемонстрировали, каким образом можно разрешить древнюю математическую шараду о квадратуре круга.
– Только Леночка, солнышко, пожалуйста, думай помедленнее, не перенапрягай так свой интеллект, я же ни слова понять не успеваю!
– Издеваешься, да?
– Я что, извращенец – над красивыми девушками издеваться? Красивых девушек надо холить, любить и лелеять. Հեռվից ես քեզ գոնե տեսնեմ, սիրեմ, պաշտեմ, մտքերդ չկարդամ[62], – переврал Брамфатуров лирическим фальцетом популярную песню.
– Да, – покачала головой Леночка, – язычок у тебя подвешен, будь здоров!
– Ты не можешь об этом судить, ты со мной не целовалась.
– Брамфатуров, не пошли!
– Истинная правда, Леночка: не пошли мы с тобой ни в кино, ни в цирк, ни в зоопарк, и как я понял, закурить ты мне тоже не дашь, вероятно, не хочешь лишить меня великой радости…
– Ой, конечно дам! – спохватилась секретарша и полезла в сумочку, но на полдороги спохватилась повторно: – Погоди, какой такой радости я не хочу тебя лишить?
– Один мудрец утверждал, что желание – радость более упоительная, чем удовлетворение желания.
– Ну?
– Баранки гну. В смысле, целую ручки. Дай закурить, а то поцелую!
– Ручки?
– Ножки.
А пока они препирались о том, о сём и о прочем, в непосредственной близости от приемной, а именно в кабинете русского языка и литературы хозяйка обоих этих помещений, с молчаливого согласия особоуполномоченного методиста, просматривала черновик то ли изгнанного из класса за употребление в официальном разговоре неуместных органов мочеиспускания, то ли отпущенного в краткосрочную побывку в ближайший ватерклозет. Почерк у вундеркинда оказался недетский, размашистый, с уклоном в стенографическую неразборчивость, но кое-что при достаточном желании разобрать было можно. И Арпик Никаноровна прилежно старалась прочитать, что же там начеркал этот кающийся, вставший на путь осознания и исправления грешник. В результате упорных прищуриваний и манипуляций с очками удалось разобрать подзаголовок, из которого выяснилось, что ниже воспоследует перечень предполагаемых эпиграфов к беловику еще ненаписанного сочинения.
Наткнувшись на греческую вязь, директриса бросила недоуменный взгляд на методиста-соглядатая, и тут же отвела его в сторону, едва сдержав улыбку усилием тренированной административной воли.
– Бодрова Маша, подойди на секундочку, – тихо позвала она и когда Маша подошла, шепотом спросила, указывая взглядом в текст: – Что тут написано, Машенька?
– Ой, Арпик Никаноровна, это же не по-русски, даже не по-армянски, а кажется, по-гречески. Я не знаю, – виновато зашелестела в ответ Бодрова.
– По-гречески я без тебя все прочла. И по-латыни и по-французски тоже. Я английского не знаю. Читаю как Пушкин – как написано. Только в отличие от Александра Сергеевича ни черта не понимаю…
– А-а, по-английски, – обрадовалась Маша почти вслух. – Тут написано: «Слов много, но Слово одно». Слово – с прописной буквы…
– И чье это изречение?
– Если верить ему, то Честертона. Хотя он может и наврать. В том смысле, что сказал это Диккенс, а он приписал Честертону…
– Может, – мрачно согласилась директриса. – Он все может. Может и по-грузински написать. Но это еще полбеды, найти знающего грузинский язык не проблема. Хуже, если он изобразит нам что-нибудь кхмерским письмом или китайскими иероглифами, а потом заявит, что это-де цитата из Цинь-Чуня…
– Так ведь у нас Артур Янц есть, – напомнила Маша. – Если не он сам, то отец его уж точно в иероглифах разбирается…
– Артур есть, – согласилась Арпик Никаноровна, – но кхмера нет.
– Арпик Никаноровна, а что он по-гречески написал?
– Фрагмент из Гераклита: «Слово означает для всех одно, но люди живут так, как если бы каждый понимал его по-своему».
– Знаете, что я думаю, Арпик Никаноровна, – с надеждой в шепоте обратилась отличница к директрисе. – А что если этот фрагмент Гераклита – единственное, что ему по-гречески известно? Он же обожает повыпендриваться…
– А то я не знаю! Ладно, иди, пиши. Спасибо.
И Арпик Никаноровна углубилась в дешифровку остальных кандидатов в эпиграфы, большинство из которых оказались написаны простым русским языком, хотя нет-нет и попадались выходцы из-за рубежа английского, французского, испанского, итальянского и немецкого происхождения. Правда, китайского или кхмерского, слава Богу, ни одного не повстречалось… Ликовала директриса, впрочем недолго. Не то чтобы повод был не тот, просто надежды не желали оправдываться. Ни единого покаянного слова правды о допущенных ошибках, вопиющих проступках, несознательном поведении. А все как-то в лучшем случае не о том, о чем следовало бы. В худшем – о чем бы не следовало никогда, ни за что и ни при каких обстоятельствах!
– Нет, – с сожалением размышляла директриса, – напрасно я положилась на его хваленую смышленость. Надо было прямым текстом дать понять, чтобы он писал свободную тему. А так, что же? Пусть он и умен, и начитан, но ведь мальчик совсем, как ему угораздиться соединить тему личного раскаяния с темой новых людей в романе Чернышевского? Хотя, конечно, если не совсем дурак, то мог бы догадаться – как. Мол, вот, чистые души, идеалы, борьба за новую жизнь без эксплуатации, неравенства, нищеты. Дескать, хотелось бы походить. Приму все меры и очень сожалею, корю себя и чещу за то, что прежде вел жизнь недостойную светлых идей и позволял себе позорящие меня, моих родителей и лично директора школы Арпик Никаноровну Нахапетян отвратительные поступки и чрезвычайные происшествия. Глубоко раскаиваюсь и желаю искупить честной и возвышенной жизнью, взяв за образец для подражания новых людей из романа Чернышевского «Что делать?»… Вот Ерем может догадаться, а он – никогда! И его еще считают умным и начитанным!.. И ведь теперь уже поздно: ни записки не написать ему, ни на ухо шепнуть, ни в черновике вопросительного знака напротив особенно рискованного эпиграфа не поставить – вон, как оба-два роноевца уставились, глазами стригут, за порядком следят. Следственный эксперимент какой-то, а не контрольное сочинение…
В дверь робко постучали, стыдливо вошли, виновато потупились, весело взглянули:
– Можно, Арпик Никаноровна? Я все осознал, раскаялся, я больше не буду…
Директриса бросила пристальный взгляд на вошедшего, надежда вновь затеплилась в ее темных выразительных глазах.
– Садись, Брамфатуров, и чтоб это было в последний раз! На вот, черновик свой возьми. Если не можешь обойтись без эпиграфов, – тут директриса учинила более чем внушительную паузу, – то будь любезен снабдить их переводами. Современные педагоги мертвых языков знать не обязаны.
– Всенепременно, Арпик Никаноровна! Все сделаю в лучшем виде, – клятвенно прижал свой листок к сердцу Брамфатуров и пошел тревожить своего высокопоставленного соседа, поскольку парты третьего ряда стояли впритык к стене с окнами.
Сосед встал, пропустил, сел, принюхался, строго вопросил:
– Вы что, курили?
– Нет, целовался с обкуренной, – с кроткой невинностью отвечал ученик. У методиста отвисла челюсть. Не слишком низко отвисла, дюйма на два, не больше. Но стоило сидевшей впереди Оле Столяровой передать украдкой записку, как челюсть соседа мигом вернулась с лязгом на место.
– Что это? Отдайте мне сейчас же! – потребовал уполномоченный, не повышая голоса, но достаточно жестко и внушительно.
– Это не шпаргалка, товарищ Дарбинян. Это записка. Судя по всему, личная…
– От той, с которой целовались? – не скрыл сарказма методист.
– Нет, от той, с которой еще не целовался. Видимо, хочет узнать, когда это мероприятие у нас с ней состоится. С вашего разрешения, я ознакомлюсь и отвечу. Даю слово джентльмена, что если это все же окажется шпаргалкой, предоставить ее в ваше распоряжение как неопровержимую улику моей лояльности…
И он развернул, прочитал; прочитав, усмехнулся и передал записку соседу.
– Как я и предполагал, это – личное, но поскольку я ничего от вышестоящих контролирующих органов скрывать не намерен, прошу убедиться в этом их самих собственной персоной.
Колебания уполномоченного были велики по амплитуде, но непродолжительны по времени: служебный долг победил все, что им не являлось. Роноевец схватил записку и прочел следующее: «Я Вам пишу, чего же боле, что я могу еще сказать? Теперь я знаю: в Вашей воле себя презреньем наказать…» И подпись: Татьяна Ларина. Под ней постскриптум: Sapienti sat[63]. А более ни слова…
– Что это значит? – потребовал объяснений проверяющий, ткнув пальцем в латынь.
– А Бог его знает, – пожал плечами Брамфатуров. – Очевидно, какое-нибудь locus communis[64] из числа pia desideria[65]. В общем, нечто крылатое, латинское, непостижимое. По крайней мере, для меня…
– Вы что, издеваетесь?! Вы же только что на этой латыни писали!.. говорили!..
– Писал, – согласился со вздохом школяр. – И говорил… Но это все так, – огрехи памяти, проделки шалуньи Мнемозины… И потом, если современные педагоги мертвых языков знать не обязаны, то странно было бы требовать обратного от их учеников, вы не находите?
Последний вопрос оказался, что называется, не в бровь, а в глаз. Уполномоченный действительно не находил, хотя, судя по отчаянной мимике и лихорадочным жестам, искал весьма добросовестно – и слова и даже целые фразы для синтаксического сооружения достойной отповеди.
– Глядя на ваши страдания, товарищ Дарбинян, поневоле уверуешь в правоту Демокрита, полагавшего мышление физическим процессом, – сочувственно обронил Брамфатуров, пряча записку в карман и вновь склоняясь над своим черновиком.
Методист тяжко вздохнул, застонал и, схватившись за щеку, выбежал вон из класса.
– Что с ним? – озадачилась директриса, переводя взгляд с единственного оставшегося посланца (точнее, посланницы) РОНО на Брамфатурова и обратно.
– Зубы разболелись, – доложил ученик. – Я пробовал их заговорить, но у меня ничего не вышло. То ли опыта маловато, то ли метод антинаучный…
Перемена, проигнорированная доброй третью класса, в том числе неудачливым заговаривателем зубов, охваченным писчим зудом, внесла в дислокацию представителей высших структур некоторые коррективы: женщина заняла место рядом с Брамфатуровым, а мужчина, очевидно, укротивший приступ зубной боли изрядной дозой тройчатки, расположился, соответственно, на второй парте первого ряда. Рокировка была произведена столь естественно и согласовано, что скорее наводила на мысль о заранее спланированном маневре, чем о спонтанной реакции на развитие непредусмотренных событий.
Как ни был поглощен Брамфатуров сочинением сочинения, но при приближении дамы вскочил на ноги, дождался пока она сядет и лишь после этого позволил себе вернуться к своим разносортным стадам – кириллице, латинице, греческой вязи, армянской клинописи, кхмерской готике… Эти джентльменские манипуляции не укрылись от окружающих, настроив часть из них на – у кого радостное, у кого тревожное – ожидание дальнейших происшествий.
– Хочу тебя, мальчик, сразу предупредить: зубы у меня здоровые, в заговаривании не нуждаются, – поставила в известность своего соседа роноевская дама, тем самым дав недвусмысленно понять, что никаких выходок за рамки предписанных устоями взаимоотношений не потерпит.
Брамфатуров искоса взглянул на соседку, словно раздумывая, сообщить ли ей о той каменной глыбе, которая свалилась с его сердца в связи с известием о завидном здравии ее зубных недосчетов или не стоит. И вероятно, предпочтя последнее, ограничился красноречивым кивком: дескать, понял, рад, постараюсь не сглазить…
– Вот и хорошо, что понял, – сказала дама и, достав из своей сумочки какую-то толстую тетрадь, развернулась всем корпусом к проходу.
– Хорошо-то хорошо, – пробормотал Брамфатуров, – да ничего хорошего, – заключил он тут же. И ни к кому конкретно не адресуясь, а как бы рассуждая с самим собой, продолжил членораздельным полушепотом о том, как он опростоволосился и какого свалял дурака, когда только сейчас вспомнил, что вообще-то на уроках русского языка и литературы он всегда сидит с краю, возле прохода, а значит, должен был писать второй вариант, а не первый, и что ему теперь делать – просто ума не приложит…
– Могу подсказать, – тихо, но внушительно, не дав себе труда обернуться, произнесла роноевская дама. – Переписывай то, что написал, на беловик, а я уж, так и быть, постараюсь уладить с Арпик Никаноровной это маленькое недоразумение.
– Спасибо, – поблагодарил растроганный школяр, так же не глядя на соседку, как и та не него. – Но, увы, беловик я уже написал. Это – во-первых. А во-вторых, вы плохо осведомлены о наших с ней взаимоотношениях. Я имею в виду литературные разногласия. Учитывая оные, я не нахожу для себя иного выхода, как не попытаться написать тот вариант, который я должен был писать изначально…
– Какие разногласия? – затлело, пока еще не дымясь, естественное любопытство методистки.
– Известно какие: она горой за социалистический реализм, а я – за метафорический…
– И в чем же это выражается?
– В поэтических пристрастиях, например. Ей по душе Маяковский, мне – Мандельштам…
– Вы еще не проходили ни того, ни… гм… другого, – слегка замялась в своей назидательности дама, должно быть, вспомнив, что того другого проходить не будут вовсе. – Да и что такое социалистический реализм тебе еще только предстоит узнать в следующем учебном году…
– Ах, мадам, во многой мудрости много печали, – пожаловался Брамфатуров. – Увы, но этот бином Ньютона стал мне известен еще в прошлом…
– Неужели? – заметила дама, постаравшись возместить скудость содержания язвительностью эмфазы.
– Je regrette beaucoup, mais…[66]
– И что же это за бином, мальчик?
– Официально, тетенька, социалистический реализм – это правдивое, исторически конкретное изображение жизни в ее революционном развитии. А неофициально, то есть в действительности, соцреализм есть воспевание начальства в доступной ему форме.
Дама изменилась в лице. Для этого у нее имелось по меньшей мере два повода: во-первых, тетенькой назвали, а не Офелией Суреновной или на худой конец товарищем Ашхужяном, а во-вторых… во-вторых, она, кажется, ослышалась. Ну, конечно же, ослышалась! Не мог этот скверный мальчишка сказать такую… такое… этакое… в общем, явную чушь, смахивающую на провокацию. Или все же мог? Дама села прямо, прикрылась тетрадью и, скосив глаза на соседа, увидела, что тот, абсолютно не интересуясь ее реакцией, что-то быстро пишет, иногда останавливаясь, задумываясь, зачеркивая одно и вписывая поверх строки другое. Пишет по-взрослому неразборчиво и по-мальчишес-ки увлеченно. Рядом, по правую руку ученика, почти на ее половине парты, притягивал внимание исписанный двойной листок черновика. Дама сочла свои долгом углубиться в эти незрелые каракули со всем тщанием задетого за живое знатока школярской криптографии.
«Роман г. Чернышевского – явление очень смелое, очень крупное и, в известном отношении, очень полезное. Критики полной и добросовестной на него здесь и теперь ожидать невозможно, а в будущем он не проживет долго.
Н. С. Лесков.
Скудость изобретения, положительное отсутствие творчества, беспрестанные повторения, преднамеренное кривлянье самого дурного тону и ко всему этому беспомощная корявость языка превращают чтение романа в трудную, почти невыносимую работу.
А. А. Фет, В. П. Боткин. О романе Чернышевского «Что делать?»
Подумать: какой из двух эпиграфов выбрать, и если второй, то не дать ли в сноске ответное мнение Чернышевского об одном из его авторов. Кажется, в письме сыновьям из Сибири? («Можно ли писать по-русски без глаголов? Можно – для шутки. Шелест, робкое дыханье, трели соловья. Автор ее некто Фет, бывший в свое время известным поэтом. Идиот, каких мало на свете. Писал это серьезно, и над ним хохотали до боли в боках»). Выходные данные? Какие к черту могут быть выходные данные, если в школе нет библиотеки!
Введение. Экспозиция. Преамбула. Мысли «вслух». Психологический этюд. Приступ разлития юношеской желчи. – Уточнить, что именно?
С первого взгляда тема сочинения кажется чисто патетической, годной лишь для пышных заздравиц да беззастенчивых панегириков – уже хотя бы потому, что заранее предполагается, образы (!) «новых людей» в этом романе имеются. Для школьника, не желающего осквернять свой интеллект благонамеренными глупостями, заимствованными из наших достохвальных учебников (этих неиссякаемых источников утомительной риторики общих мест и гнетущего официозного вздора), проблема представляется неразрешимой: либо, презрев проповедуемый автором «Что делать?» разумный эгоизм, изложить честно и откровенно свое мнение и о теме сочинения, и о самом романе, либо, кривя душой, предаться тому паратактическому безобразию, которым занят в данный момент практически весь наш 9 «а». Третьего не дано. Ученик поставлен перед жестким выбором экзистенциалистского толка, почти по Сёрену Кьеркегору: или – или.
Лгать или не лгать – вот в чем вопрос;
Достойно ль примириться с ложной темой,
Иль надо оказать сопротивленье
И в честной схватке с целым морем лжи
Спознаться с пораженьем?
– Сердце бедного школяра пищит, как орех в клещах, при мысли об ожидающих его перспективах…»
Товарищ Ашхужян вновь покосилась на соседа, перевела дух и отважно отправилась расшифровывать дальше.
«Еще и потому автор романа швейную мастерскую завел, что там девушки. А вот возьми его герои концессию на разработку месторождения угля, несладко бы им пришлось со своими теориями, потому как мужики имеют привычку пить горькую и посылать куда подальше тех, кто им в этом препятствует. А так, конечно, набрал в артель Сонь Мармеладовых и – вперед, к сретенью социалистической истины! Тем более, что все внешние препоны по достижению в отдельно взятой мастерской идеалов «равенства, братства и справедливости» Чернышевский предусмотрительно убрал: нет ни спадов, ни кризисов, ни конкуренции, посему можно всю прибыль распределять между работниками во славу ее величества уравниловки, платя закройщице столько же, сколько подносчице горячих утюгов, не заботясь ни о расширении производства, ни о внедрении новых технологий, ни о рекламе, ни даже, кажется, об амортизации…»
«Чернышевский не потому узок, что так велит его революционно-демократическая вера. Это не Маяковский, наступающий из высоких идейных соображений на горло собственной песни. Нет, Чернышевский изначально узок, был таким, когда упражнялся в наследственном православии или когда упорно изобретал перпетуум-мобиле, и таким же остался, уверовав в иную, а по сути, в ту же веру. Как католицизм породил протестантизм, а последний, – если верить Ницше, – немецкую философию (Esse Homo? – präzisíeren!), так русское православие зачало и произвело на свет Божий собственного противника в виде дантистов нигилизма с их базаровской вольницей (Герцен). Чернышевский, Добролюбов и Кº остались верующими людьми, причем догматически верующими. Менее всего им был свойствен скептицизм, который вообще не присущ русской природе. Типический русский человек (а Чернышевский был именно типическим русским) не может долго сомневаться, он склонен довольно быстро образовать себе догмат и целостно, всей душой, всем сердцем своим отдаться этому догмату. Русский материализм – феномен того же ряда, что и русское православие. (Мысль Бердяева. Приводится им, кажется, в «Истоках и смысле русского коммунизма». Или все же в «Судьбе России»? – вспомнить!)… Соответственно и «новые люди», которых методическое пособие по преподаванию русской литературы настоятельно советует нам обнаружить в романе Чернышевского, буквально потрясают читателя своей неслыханной новизной, в особенности по части чистоты их нравов. Не было до них никого сопоставимого: ни кротонских пифагорейцев, ни иудейских ессеев, ни прозревших овечек раннехристианских общин, ни тем более манихеев, моравских братьев или квакеров. Их взаимоотношения исполнены беспримерной честности и не имеющей аналогов святости, покоящихся на интеллектуальной твердыне теории разумного эгоизма имени блаженного Иеремии Бентама…»
««Что делать?» как социально-психологический феномен. Роман стал неизбежен с момента ареста Чернышевского и привлечения к делу его дневников. Н. Г. собирался одним выстрелом даже не двух зайцев прикончить, а трех или четырех. Во-первых, показать властям, что крамольный его дневник есть не что иное, как черновые подготовительные записи к роману. Во-вторых, продемонстрировать не только властям, но и почтенной публике, что он не Робеспьер верхом на Пугачеве (Лесков). В-третьих, снабдить своих приверженцев образцами для подражания. В-четвертых, доказать городу и миру, что судить его не за что, что учение его разумно, ибо эгоистично… В-пятых, человеку, который на протяжении нескольких лет только тем и занимался, что без конца критиковал, поучал и высмеивал в письменном виде всю просвещенную Россию, было крайне тяжело вдруг замкнуться в вынужденном молчании. Словом, все сошлось один к одному – к нашему великому читательскому сожалению! Власти, публикуя роман Петропавловского сидельца, рассчитывали на его провал, но публика «просекла» и приняла его на ура. Вместо ожидаемых насмешек вокруг «Что делать?» сразу создалась атмосфера всеобщего благочестивого поклонения. Его читали, как читают богослужебные книги. Гениальный русский читатель понял то доброе, что тщетно хотел выразить бездарный беллетрист. (Сюда бы «Психологию толпы» Гюстава Лебена привлечь, если память сжалится, рас- щедриться, снизойдет, озарит и обяжет…)…»
«Генри Дэвид Торо полагал, что не все книги так бестолковы, как их читатели. Однако «Что делать?» Чернышевского настолько бестолковая книга, что практически любой читатель средней руки вправе вообразить себя толковее ее сочинителя. Чтобы зачитываться такой агиткой, надобно быть лишенным свыше всякого вкуса к литературе как к искусству слова, но взамен высоко ставить простоту, не освященную вдохновением, и нравоучительство, напичканное пафосом. Включать подобные сочинения в школьную программу – значит вольно или невольно отваживать подрастающее поколение от истин- ной словесности…»
Представительница РОНО прервала чтение и попыталась собраться с мыслями. Однако далеко не все мысли сочли эту попытку удачной. Многие поспешили укрыться в подсознании, иные прикинулись подавленными представлениями, а наиболее дальновидные прибегли к услугам вытеснения. Поди, соберись с этими саботажницами! Пришлось довольствоваться склонными к лояльности порождениями интеллекта. Увы, большинство из них оказались на деле самозванками с поддельной родословной. Эмоция – вот их альма-матер. Ну и повели себя в полном соответствии со своим происхождением, толкуя, словно чернь тупая, примерно так:
Зачем всё это он несет?
Напрасно знаньем поражая,
К какой он цели нас ведет?
Почто нудит? О чем хлопочет?
Зачем в тупик поставить хочет,
Как своенравный диссидент,
Как бузотер, как инсургент,
Как несознательный юнец,
Как провокатор, наконец?
Неизвестно, до чего бы довели свою номинальную хозяйку эти искусницы, если бы одна из саботажниц не раскаялась, не развоплотилась из первичного во вторичное вытеснение, и не посоветовала немедленно показать этот пасквиль директрисе на предмет обсуждения психиатрического состояния его автора. Офелия Суреновна протянула руку, схватила черновик и… обнаружила под ним беловик сочинения на ту же тему. Рука ее с черновиком застыла на полдороги, глаза пытливо впились в текст, ища и не находя чего-либо схожего с ранее прочитанным.
«Контрольное сочинение. Вариант I.
Новые люди в романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?»
…есть у нас повсеместное честное и светлое ожидание добра, желание общего блага и прежде всего вера в идею, в идеал. Юношество наше жаждет подвигов и жертв.
Ф. Достоевский. Дневник писателя.
…Бывают случаи, когда обаяние человеческого подвига искупает литературную ложь, и тогда начинаешь понимать, что такие люди, как Чернышевский, при всех их смешных и страшных промахах, были, как ни верти, действительными героями в борьбе с государственным порядком вещей, еще более тлетворным и пошлым, чем их литературно-критические домыслы.
В. Сиринъ. Дар.
Вначале была мысль. И мысль была у революционных демократов во главе с Чернышевским. И мысль была о новых людях и новых взаимоотношениях между людьми. И воплотилась мысль в слове агитационном, под беллетристику стилизованном. И тогда прочли люди, и поняли суть, и возгорелось из искры пламя борьбы за Свободу, Равенство и Братство. И стали читатели Слова новыми людьми, и завели между собой новые взаимоотношения. Так в очередной раз Ее Величество Литература заставила жизнь подражать себе, творя новые формы последней по образу своему и подобию. Ибо, в конечном счете, важно не что и как написано, а как написанное читают, как воспринимают, какие выводы из прочитанного делают, какой думкой – социальной, моральной, или эстетической – при этом богатеют. И в этом смысле роман Чернышевского «Что делать?» есть явление поистине феноменальное. Сила его воздействия на современников сопоставима (не по масштабам, но по глубине) с воздействием Библии, или, если слегка умерить пыл и чуть-чуть добавить скромности, – с влиянием «Вертера» на просвещенную молодежь конца XVIII века. Правда, с той разницей, что любовь в произведении Гете сделалась чем-то трагическим, от чего полагалось умирать с шумом (Анатоль Франс). Тогда как в романе Чернышевского то же самое чувство приобрело черты благородного альтруизма и великодушия, так что в голову внимательного читателя порой закрадывалось сомнение: что́ перед ним, Эрос или все же Агапе?..»
Но тут поверх беловика первого варианта контрольного сочинения лег беловик второго варианта, а на беловик второго – его же черновая версия.
– Пардон, мадам, не имею чести знать вашего имени, но… – зашептал заговорщически сосед.
– Офелия Суреновна, – представилась шепотом же проверяющая. Причем сделала это чисто механически, на автопилоте, поскольку мысли ее были заняты разгадкой мучительной тайны, а именно: каким образом черновики оказываются поверх беловиков, а не наоборот?
– Oh, it is very oblige name! If you are Ophelia, therefore, you are honest and fair and your honesty is discourse to your beauty. In addition, I seems, they always to come to concert[67]…
– Что? Что ты там бормочешь?
– Да так, Билла на память цитирую…
– Какого еще Билла? – ужаснулась проверяющая (только американцев им в его сочинении не доставало!).
– Есть такой: Билл Шекс – автор нескольких удачных голливудских сценариев и множества слезливых сонетов. Неужели не слышали? Кнут Гамсун уверяет, что он еще и танцы преподает, но мне что-то не верится…
– Не слышала и слышать не хочу! – отрезала Офелия Суреновна. Отрезала, правда, шепотом, но от этого не менее категорически. – Ты хоть понимаешь, что ты написал?!
– Я понимаю, что у меня бумага кончилась, а мне еще третье сочинение писать. На свободную тему. Досточтимая Офелия Полониевна, будьте так добры, снабдите меня парой двойных листочков с печатями. Хочу проверить, смогу ли я соединить в своей скромной особе Чехова с Толстым, Пушкина с Гоголем и Дэвида Юма с Марксом-Энгельсом в придачу, или даже такая малость не по зубам моим молочным?
– Суреновна я! Офелия Суреновна! – вспылила дама почти что вслух.
Класс перестал писать, директриса зорко следить за тем, чтобы посланцы РОНО не застукали пользователей шпаргалок, товарищ Дарбинян сочувственно покачал головой: паршивая овца все стадо портит…
– Брамфатуров, ты что, уже закончил?
– Нет, что вы, Арпик Никаноровна, я только начинаю!
– Как – только начинаешь? – неприятно поразилась директриса. – До конца урока всего десять минут осталось…
Класс перестал пялиться на заднюю парту у окна и с удвоенной энергией заскрипел шариковыми ручками.
– Ничего, Арпик Никаноровна, напишу что успею, а что не успею, наведаюсь в РОНО, и изложу им устно…
Девятый «А» нервно хихикнул и вновь сосредоточенно задвигал перьями.
– Прошу прощения, Офелия Суреновна, я не хотел вас обидеть. У меня автоматически вырвалось. Болезнь у меня такая: нервная инерция литературных ассоциаций. Врачи говорят: неизлечимо, но я с ней справлюсь, вот увидите! Хотя, все равно приятно: Сурен – канцлер Дании! Как я раньше не догадался! Сын – Лаэрт, дочь – Офелия, спрашивается, кто же у них отец, если не армянин?! Да, проникновенье наше по планете особенно заметно вдалеке: в дворцовом эльсинорском туалете есть надпись на армянском языке…
Офелия Суреновна не отреагировала, она была чрезвычайно занята – пожирала расширенными до предела глазами черновик второго варианта. Поскольку размером глаз Бог методистку не обидел, определить в точности, какой именно абзац привлек ее потрясенное внимание, не представляется возможным. Посему имеет смысл привести всю первую страницу, как она есть. То бишь была…
«В отличие от апологетов Достоевского (Кирпотина, Кожинова, Фридлендера и др.), считающих, что «Преступление и наказание» принадлежит к вершинам романного искусства, я нахожу этот роман затянутым, нестерпимо сентиментальным и дурно написанным. Меня коробит от синтаксических привычек и семантических обыкновений этого болезненного гения нашей классики».
«Мучиться Раскольников должен вовсе не из-за того, что убил, а из-за того, что сглупил, нелепой и крайне сомнительной идеей увлекшись до голодных обмороков и сомнамбулического бреда. Продешевил он, прежде всего не нравственно, но интеллектуально. Вот где стыд! Вот в чем позор! Вот почему его «глядение в Наполеоны» кажется клиническим случаем из жизни постояльца психушки».
«Достоевский – это, прежде всего, патология. Даже здравая мысль или резонное соображение принимают у него патологическую форму. Не о нем ли Фридрихом Ницше сказано: «Вместо здоровья – «спасение души», другими словами, folie circulaire[68], начиная с судорог покаяния до истерики искупления!» Его герои суть случаи из психиатрической практики, в том числе из практики бреда (см. Учебник психиатрии от 1954 г.: «Кто там ходит без крышки на голове?»)»
«Вместо того чтобы, изучив немецкий язык и досконально проштудировав сочинения гг. Маркса и Энгельса, организовать революционную партию рабочих, свергнуть царизм и осчастливить весь трудовой народ лампочкой Ильича, эта ходячая идея, этот неудавшийся студент задался преглупой мыслишкой – выяснить, человек он или тварь дрожащая, и попытался разрешить этот гамлетовский вопрос с помощью тривиального убийства беззащитной старухи. По нем психушка плачет и не может утешиться, ибо он на свободе, а не в ее стенах, обитых периной, а мы, бедные девятиклассники, изучай историю его болезни, представленную припадочным беллетристом Достоевским в виде душемутительного романа с душеспасительным эпилогом. Мало того, еще и изощряйся в сочинительстве школьных сочинений на тему «Маленького человека» в этом эпикризе».
– Ты что, сначала беловик пишешь, а потом черновик? – прошептала наконец проверяющая.
– Угу, – подтвердил Брамфатуров. – Рад, что вы это заметили. Так интересней. Хоть что-то творческое в процессе… Как насчет проштемпелеванных листков для свободной темы? – И заметив колебания в глазах методистки, вдруг оживился: – O rose of May! O sweet Ophelia! I need some pepper not violets. Please, help me now and thou memory will always live in my heart[69]!
Офелии Суреновне очень хотелось показать этому выскочке кукиш, козу, язык, если только не что-нибудь более существенное, но она сдержалась.
– Ничего вы не получите! Не положено! – отчеканила она вполголоса. И нарвалась на лирическое признание:
– Дурное ты учтивым вы
Она, обмолвясь, заменила
И все безумства трынь-травы
В душе подростка возбудила.
Пред ней я мысленно стою,
Просить повторно нету силы;
И говорю ей: это мило!
И мыслю: как я вас люблю!
Офелии Суреновне стало дурно. Не до степени обморока, а до степени невозможности находиться долее в этом помещении. «Pardon moi»[70], пролепетала уполномоченная особа, пролетая мимо директрисы на крыльях легкого нервного припадка.
– Офик?[71] Что случилось? Ты куда? – вскочил со своего места товарищ Дарбинян.
У Арпик Никаноровны как бы сама собой, по собственному почину, приподнялась левая бровь: к французскому «мерси» вместо армянского «шноракалуцюн» все уже привыкли, но вот «пардон», да еще и «муа», были пока в диковинку.
– Брамфатуров! – строго воззвала директриса после того как второй проверяющий покинул кабинет русского языка и литературы вслед за первым. – Может, объяснишь, что происходит?
Брамфатуров нехотя оторвался от выцыганенных двойных листков с заветным штемпелем:
– Понятия не имею, Арпик Никаноровна. Но подозреваю, что приступ кислородного голодания. Все-таки тысяча метров над уровнем моря… Со всеми ереванцами время от времени такое случается. Со мной, например, каждые три-четыре часа. Правда, желудочного, а не кислородного…
– Понятно, – произнесла директриса многозначительно, после чего, упершись обеими руками в стол, приступила к процессу перехода от положения сидя к положению стоя, попутно давая ценные руководящие указания ответственным лицам класса.
– Лариса, Грант, Маша, мне срочно надо выйти. Сами понимаете… Пока не придет Лючия Ивановна, за порядок на уроке отвечаете вы. Брамфатурову слова не давать! Ни под каким предлогом! Дадите – пожалеете, это я вам гарантирую…
Ответственные лица, напустив на свои физиономии неподкупную строгость, обернулись к задней парте у окна, но Брамфатуров даже не поднял глаз подмигнуть, увлеченный своей писаниной.
53
Festina lente (rus.).
54
Как он имел наглость назвать восстание декабристов, не преминув заявить о своем категорическом несогласии с В.О. Ключевским, ограничившим «эпоху дворцовых переворотов» всего-навсего тридцатью семью годами (1725–1762), в то время как на деле эта эпоха растянулась ровно на столетие и насчитывает не пять удачных переворотов, а семь удачных и одно неудачное. Ибо воцарению Павла на престоле были присущи все характерные признаки дворцового переворота с его опалами для фаворитов прежнего правления и отличиями для приверженцев нового. О способе прихода к власти Александра I через лейб-гвардейский заговор и убийство того же Павла нет смысла спорить. Что же касается декабрьской бучи ста двадцати блажных поручиков, то переворот им не удался единственно потому, что в их рядах не оказалось в наличии реального претендента на трон; удовлетвориться отсутствующим Константином и женой его Конституцией смогла лишь незначительная, обладающая отвлеченным мышлением, часть гвардии.
55
Ужасный ребенок (фр.).
56
И так далее и тому подобное (лат.).
57
Слов много, но Слово – одно. Г.К. Честертон (англ.).
58
Книги имеют свою судьбу. Теренциан Мавр (лат.).
59
Ни слова, ни мысли. А. Рембо (фр.).
60
Дарбинян, как и Смит, эквивалентны русской фамилии Кузнецов.
61
Привет, сладенькая! Не подскажешь, где тут наша школьная библиотека? (англ.).
62
Хотя бы издали видеть тебя, любить, обожать, мыслей твоих не читать (армян.).
63
Разумеющий поймет (лат.).
64
Общее место (лат.).
65
Благие пожелания (лат.).
66
Мне очень жаль, но… (фр.).
67
Весьма обязывающее имя! Коль вы Офелия, значит, вы добродетельны и прекрасны, и ваша добродетель дискутирует с вашей красотой. И, как мне кажется, они всегда приходят к согласию (англ.) [Аллюзия из первой сцены третьего акта «Гамлета»].
68
Маниакально-депрессивный психоз (фр.).
69
О, роза мая! О, Офелия святая! Бумага мне нужна, а не фиалки. Помоги мне, и память о тебе жить будет вечно в моем сердце! (англ.). (Аллюзия из все того же «Гамлета». Акт IV, сцена 5).
70
Простите меня (фр.)
71
Так армяне кличут Офелий. Соответственно Джульетт называют Джуликами, Ромео – Ромиками, Гамлетов (Hamlet) – Гамиками (Hamik), но Лаэртов почему-то Лариками не именуют, равно как и Лиров Лириками. А так – полная шекспиризация армянского быта, как говорится, налицо.