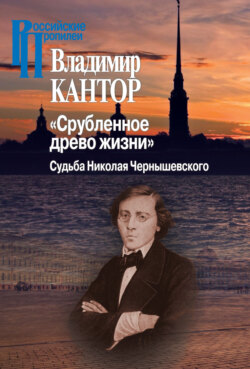Читать книгу «Срубленное древо жизни». Судьба Николая Чернышевского - Владимир Кантор - Страница 5
Глава 1
Месторазвитие, или Евразийский центр России
Духовные достижения русской семинарии
ОглавлениеА если назвать имена выдающихся деятелей России, прошедших семинарию уже в XIX веке, то их перечисление заняло бы не одну страницу. Напомню некоторые, так или иначе вошедшие в литературу и философию. Первый русский реформатор Михаил Михайлович Сперанский (фамилия не родовая, а данная семинарским начальством за надежды, которые он возбудил своим учением), окончивший семинарию, где усвоил блистательно весь курс – то есть древние языки, риторику, физику, математику, философию и богословие. Отец – причетник в церкви, мать – дочь дьякона, но благодаря успехам в семинарской учебе, мальчик был замечен. Библиотека семинарии была большая – в подлинниках, древние и новейшие авторы; свободно владея французским языком, Сперанский читал просветителей (Дидро, Вольтера и др.), оставшись на всю жизнь их последователем. Повторю: мы совершенно не представляем себе уровня семинарского обучения. Разумеется, светскости семинария не давала, свободно говорить на западноевропейских языках мало кто умел (Чернышевский всю жизнь страдал от своего плохого произношения, но свободно читал практически на всех важнейших языках). Сперанский, призванный поначалу к князю Куракину как делопроизводитель, шаг за шагом поднялся до невероятных высот, стал другом императора Александра и получил графский титул. В его карьере были не только взлеты, но и падения. Но он был примером для молодых честолюбивых семинаристов, показывая им возможности и силу образования. Оставим пока Сперанского, к этой теме еще придется вернуться, ибо в каком-то смысле его судьба стала матрицей судьбы Чернышевского, как об этом невольно написал последний.
Напомню еще имена. Тут нельзя миновать Александра Петровича Куницина, учителя Пушкина, профессора Царскосельского лицея, сына дьячка из Тверской губернии, учившегося в Гёттингенском и Гейдельбергском университетах. Пушкин писал:
Куницыну дань сердца и вина!
Он создал нас, он воспитал наш пламень,
Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжена.
Замечательный критик, предшественник Белинского, Николай Иванович Надеждин (тоже семинарист, как и Сперанский получивший свою фамилию по результатам учебных успехов). Родился в семье сельского дьякона. Учился в Рязанском духовном училище (1814), затем в Рязанской духовной семинарии (1815–1820), оттуда поступил в Московскую духовную академию (1820–1824). После окончания академии преподавал в Рязанской духовной семинарии. В 1830 г. Надеждин защитил диссертацию в Московском университете. Диссертация была написана о романтической поэзии на латинском языке. Едва ли не первым в России на труды немецких философов – Канта, Фихте, Шеллинга опирался Профессор Московского университета, издатель, помимо своих замечательных статей, произведений выдающихся современников опубликовавший в журнале «Телескоп» письмо Чаадаева, за что был сослан в Усть-Сысольск. У него учился знаменитый любомудр из дворян Н.В. Станкевич.
У нас любят противопоставлять как бы вольного эстетика и критика В.Г. Белинского, возникшего как Феникс из чьего-то пепла (литературовед, восторженно пишущий о «Висяше»), семинаристу Чернышевскому. Но интересно, что дед Виссариона Белинского по отцу был священником в селе Белыни Нижнеломовского уезда (о. Никифор) Пензенской губернии, что объясняет происхождение фамилии. Любопытно, что Тургенев писал о том, что именно в великорусском духовенстве текла беспримесная кровь, без чуждых влияний. То, что Тургенев был не точен, достаточно очевидно, поскольку великорусское племя создавалось из смеси многих этносов, особенно в поволжской провинции.
Если дальше пойдем по хронологии, то назовем семинаристов – Чернышевского, Добролюбова, Антоновича, Помяловского. Великий русский историк Василий Осипович Ключевский тоже прошел семинарию прежде университета. Духовное сословие дало русской культуре великих людей почти столько же, сколько дворянство. Скажем, лучший русский драматург Александр Николаевич Островский был внуком священника, его отец окончил семинарию и Московскую духовную академию. Ближайшим сподвижником Ф.М. Достоевского по журналам «Время» и «Эпоха», ведущим их критиком, был Николай Николаевич Страхов, сын священника из Белгорода, закончивший Костромскую духовную семинарию. Надо также упомянуть, что сыном священника был другой великий историк, ректор Московского университета Сергей Михайлович Соловьёв, отец философа Владимира Сергеевича Соловьёва, посвятившего свой главный философский труд «Оправдание добра» историку-отцу и деду-священнику, подчеркивая свое происхождение. Существенно отметить, что Чернышевского и в момент его катастрофы, и после поддержали и отец, и сын Соловьёвы. Причем если отец только осуждал в кулуарных разговорах арест и казнь мыслителя, то сын написал статью «Первый шаг к положительной эстетике», в которой поддержал его философско-эстетические идеи, и биографическую статью о нем. Кстати, поддержка религиозным философом диссертации, которую принято называть материалистической, заставляет задуматься о правильности привычной трактовки идейного наследия Чернышевского. Вообще, о близости идейной и даже ментально физиологической Владимира Соловьёва и Николая Чернышевского мне еще представится случай сказать.
Стоит отметить и великого писателя, которого с Чернышевским связывали духовные, почти мистические узы (об этом дальше). Они следили за творчеством друг друга, спорили сурово, однако с полным пониманием позиции друг друга. Я имею в виду Федора Михайловича Достоевского. Все знают, что он был один из самых христианских писателей-мыслителей в России. Даже в своих «Записках из подполья» он, в сущности, несмотря на мнения однозначно направленных умов, поддержал «Что делать?» Чернышевского, показав, что выступающий против законов природы и разума антигерой повести оказывается самым свирепым эгоистом («…Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить», – говорит он), ибо разумный эгоизм героев Чернышевского по сути дела повторяет знаменитую формулу Христа, что надо полюбить другого, как самого себя. Не любя себя, человек не сможет полюбить другого, ибо безлюбый мир – это мир смерти. Подпольный человек ненавидит себя, потому и унижает женщину, полюбившую его. Чернышевский в своих дневниках откликался с восторгом почти на каждое произведение Достоевского. Любопытно все же в данном контексте другое: Достоевский по отцовской линии был внуком священника. Об этом сказано в замечательной (уникальной, я бы сказал) книге Игоря Волгина «Хроника рода Достоевского», где он выступил руководителем проекта. Цитирую недавно открытое и доказанное: дед писателя Достоевский Андрей Григорьевич, униатский священник в селе Войтовцы Брацлавского воеводства, рукоположен 22 мая 1782 г. киевским униатским митрополитом Иассоном Смогоржевским. В 1794 или 1795 г. воссоединился с православием[12]. А отец Достоевского Михаил Андреевич учился поначалу в По-дольско-Шаргородской семинарии, потом уже в Медико-хирургической академии. Далее он выслужил потомственное дворянство. Но, следуя реальному происхождению Достоевского, можно сказать, что великий писатель тоже происходил из «второго эшелона» русского просвещения.
Стоит добавить и великого физиолога, первого русского нобелевского лауреата Ивана Петровича Павлова, хотя в массовом сознании церковь и наука (несмотря на разночинцев 60-х годов, «резавших лягушек») всегда противостояли друг другу. Но отец Павлова был священником, мать тоже из духовного сословия, а сам он окончил Рязанскую духовную семинарию.
Хранителями искусства тоже были выходцы из духовного сословия, достаточно назвать Ивана Владимировича Цветаева, сына священника, и, конечно, ученика духовной семинарии, а потом профессора, создателя знаменитого Музея изящных искусств. Надо бы вспомнить и двух его дочерей – Марину Цветаеву и Анастасию Цветаеву. Из духовного сословия вышли великие русские писатели – Евгений Иванович Замятин и Варлам Тихонович Шаламов.
Начинавшие свою деятельность в XIX веке знаменитые русские философы Василий Васильевич Розанов и Сергей Николаевич Булгаков – тоже выходцы из духовного сословия. Вообще надо подчеркнуть, что не только в Духовной академии, но и в семинариях преподавали философию, которой не было в университетах[13]. Снова сошлюсь на Флоровского: «В духовной школе закладывались основания для систематической философской культуры. И нужно прибавить: философия преподавалась не только в академиях, но и в семинариях, и по довольно широкой программе. Это был единственный тип средней школы с серьезным развитием философского элемента»[14].
Начиная с середины XIX века священники становятся героями художественной литературы, ибо именно в них писатели пытались найти силу, способную обрáзить народ и общество. Тут стоит вспомнить «Бесов» и «Братьев Карамазовых» (Тихона и Зосиму) Ф.М. Достоевского, «Соборян» и «Запечатленного ангела» Н.С. Лескова, «Архиерея» А.П. Чехова, «Краткую повесть об антихристе» (старец Пансофий) В.С. Соловьёва. Делал из себя религиозного мыслителя Лев Толстой. Происходила любопытнейшая трансформация в сознании образованного общества. Оно почувствовало, что Крещения князя Владимира недостаточно, чтобы страна стала христианской, поскольку вера не прошла этап рефлексии, столь необходимый для подлинного усвоения религиозных начал. Если романская Европа этот этап прошла в эпоху апологетов еще в Римской империи, а затем повторила его в Крестовых походах, германская Европа в эпоху Лютера и становления протестантизма, когда все слои с необходимостью решали проблему своего религиозного бытия, то в России этап рефлексии (старообрядчество) был купирован государственной властью.
12
Хроника рода Достоевских. М.: Фонд Достоевского, 2013. С. 74.
13
Надо сказать, что когда моя книга была закончена и сдана в издательство, мне в руки попал замечательный трактат (перевод с английского): Манчестер Лари. Поповичи в миру. М.: НЛО, 2015, в котором я нашел сюжеты, схожие с началом моей работы. Книгу эту рекомендую читателям.
14
Флоровский Г. В. Пути русского богословия. С. 309.