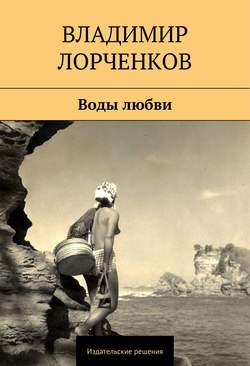Читать книгу Воды любви (сборник) - Владимир Лорченков - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Жить
ОглавлениеМы встретились чисто случайно, я даже не помню, где.
Ну, то есть, простите. Я все время, когда говорю о ней, сбиваюсь на поэзию, песни, и вообще творчество. Ведь моя Вика – очень творческий человек. Она состоит в союзе поэтов и писателей города Кишинева, и получила грамоту за поэтический конкурс «Бронзовый Орфей и серебряный Стрелец: ты вдохновенье и мечта». Помню, когда первый раз встретил ее, она стояла на ступенях библиотеки имени Пушкина, в самом центре города, и декламировала стихи… Признаться честно, меня никогда не интересовали ни библиотеки, ни стихи, ни даже Пушкин. Я работал сопровождающим грузов, моя профессия не требует ни специализации, ни образования. Я просто окончил школу с аттестатом со средним баллом 6 из 10 возможных, напился, как и все, на выпускном, проблевался на следующий день, и в выходные пошел на собеседование к знакомому родителей, владельцу компании «Быстрая почта». И стал ездить по городу на бронированном автомобильчике, чтобы собирать пакеты с почтой, документами, и всяким разным, которые люди хотят отправить поскорее. Моя задача была в том, чтобы принять пакет, дать человеку расписаться, и сесть с конвертом в машину. К вечеру мы собирали полный грузовичок почты и ехали в аэропорт. Все, как видите, просто. Большего мне и не хотелось, потому что никакими способностями в школе я не обладал, на физкультуре не блистал, и не мечтал вдуть учительнице химии. Был, прямо говоря, обычной серой плесенью. И только благодаря Вике расцвел.
Как ярко-зеленое пенициллиновое пятно на старом хлебе…
Вот видите, я допускаю вполне художественные сравнения. Это все Вика. Она, впрочем, и не сомневалась, что я смогу. Хотя мне не верилось. Я просто шел в выходной день по центру города, чтобы встретиться с одноклассниками. Послушать, кто с кем развелся, кто на ком женился, кто кого трахнул – я цитирую – и тому подобные малоинтересные вещи. Но никаких других интересных вещей у меня в жизни не происходило, так что я шел. На мне были одеты серые брюки, тщательно отутюженные, старые, но вычищеные туфли, и аккуратная рубашка. Вика сказала позже, что я выглядел, как советский инженер в фильмах долбоеба Рязанова. Ну, это режиссер такой. Я не знаю, потому что не смотрю советского кино. И вообще никакого не смотрю. Я просто забираю почту, а потом отвожу ее в аэропорт.
UPA, круглосуточная доставка корреспонденции. Символ – Луна. Типа работаем и ночью.
А Вика выглядела совсем не как советский инженер. На ней были шикарные кожаные сапоги до колена, короткая юбка, и блуза с декольте. Довольно смелый наряд для 39—летней женщины, но при ее фигуре она могла себе такое позволить. Да и может. Собственно, фигура меня и привлекла. Завидев полную симпатичную женщину в коротком обтягивающем платье-мини и сапогах, на ступенях здания, оказавшегося библиотекой, я подошел. Перед ней был микрофон. Внизу толпились люди. Собрание продавцов гербалайфа, понял я. Но реальность оказалась куда как круче. Вика сказала:
– Добро пожаловать на дни духовности, – сказала Вика.
– И русской культуры, – сказала она.
– И встречу членов кружка «Пегас Кишиневский», – сказала она.
После чего прочитала:
…я пошла сегодня утром в поле рано
ныло сердце, ныли кости, то душевная рана
колет, ранит, воет, плачет, и терзает,
сердце мое бедное на части разрывает,
то моя печалюшка кручинушка во поле
то мое сердечушко и горюшко в подполе
то мой суженый да ряженый, что вдул
не женился, растворился, получается, надул…
Собственно, это все, что я запомнил, потому что она случайно взглянула мне в глаза и я вдруг почувствовал, что время замедлилось, и что я совершенно не различаю сказанного этой женщиной. Я очень отчетливо увидел, что она ярко и довольно безвкусно накрашена. Еще бы чуть-чуть, и она выглядела вульгарно. Но это Кишинев, и вульгарно здесь – в два раза вульгарней, чем где бы то ни было. Так что мне понравился ее макияж. Я оглянулся. Выходной был в разгаре, заодно Кишинев праздновал день города.
По центральной площади бродили в жопу пьяные люди, которые пили вино прямо из 6—литровых пластиковых бутылок специально для репортажей иностранных корреспондентов. Мэр принимал парад долбоебов, переодетых в средневековые костюмы, прямо на потрескавшемся асфальте. Он как раз подвернул ногу и страшно ругался матом.
Конечно, по-русски.
– В рот, на ха – говорил он.
Я развернулся, и увидел, что Вика смотрит на меня. Я вспомнил, что последний секс был у меня как раз на выпускной, а ведь уже полтора года прошло, и я не очень хорошо его помню. Что-то потное, мокрое, суетливое. Кажется, мне дала толстая девчонка из соседнего класса, которую третировали в школе все 11 лет, что она там училась. Единственный, кто ее не трахал – в переносном смысле – был я. Так что она решила вознаградить меня, и дала себя трахнуть в смысле прямом. После чего похудела, похорошела, и уехала в Москву, где стала ведущей программы на «Муз-ТВ», из-за чего ее возненавидел весь Кишинев.
У нас так принято.
Ну, просраться на соотечественника, который чего-то добился.
Признаться честно, я тоже не остался в стороне. Написал огромный пост под статьей про Леру (ну, все уже поняли, о ком идет речь, да), которую подписал «Сбивший целку «звезде». Там я написал о том, какая она была толстая, глупая, и зачморенная и что она была полное ничтожество, и я был единственный кто ее пожалел, и имел ее через не хочу, и что она была так себе, и что наверняка я был самый крутой мужчина в ее жизни.
Само собой, я так не думал.
Просто мне было обидно, что ее жизнь расцвела всеми красками символа движения геев и лесбиянок – ну, радуги, – а моя осталась серой и унылой, как Кишинев в ноябре. С потрескавшимся асфальтом, кретино мэром, который ругается матом по-русски, и кучкой дебилов у ступеней национальной библиотеки.
Над которыми, впрочем, возвышалась Вика.
В красных сапогах на полных ногах, и в блузе с глубоким вырезом.
У меня перехватило дух. Красивее женщины я в жизни не видел. Интересно, она берет в рот, подумал я. Интересно, куда она еще берет, подумал я, потому что ответ на первый вопрос был совершенно очевидным. Я читал в «Экспресс-газете», перед тем, как прогадитьсяпод статьей о Лере, другую статью. И там было сказано, что женщина, которая красит рот ярко-красной помадой, просто-напросто акцентирует внимание на своем рте, и на том, что сосет. О боже, подумал я. Хорошо бы такую, подумал я. Моя жизнь проходит, а я еще не повстречал женщину для постоянных отношений, подумал я. В это время сверху крикнули.
– Слэм! – крикнула Вика.
– Это как, – спросил кто-то.
– Каждый читает стихи, и мы определяем победителя, – сказала Вика.
Собравшиеся оживились. Все это были старые неудачники, с вкраплением неудачников молодых, плохо одетые – совсем как я, понял вдруг я со стыдом, – и с дурным запахом изо рта. Они по очереди взбирались на ступеньки и читали какую-то муть оттуда, взволнованно поглядывая на окружающих. Вика – она была модератор вечера, чтобы это не значило, – воодушевляла их, без сомнения. Кто-то дал ей шаль, и Вика укуталась. Это было так сексуально, что я упустил момент, когда мог выбраться из редеющей толпы, и в меня ткнули пальцем.
– А? – сказал я.
– Теперь Вы, – сказала Вика.
– Но я не… – сказал я.
– Послушайте сердце, – сказала она.
Я подумал немножко, а потом поднялся вверх по ступеням. Глянул в небо. Сказал:
мохнатый шмуль на душистый буль
цопля каплая в елтыши
а царанская дочь за любимой в ночь
по епству глядачьей мыши…
так улет за балканской малой ездовой
так мохнат на звиздячьей душой
так тырись оно в рот ради русь удалой
и пусть будет с тобою чин-чин…
заепахтый шмуль на душистый иссык-куль
байканур, днепрогэс и ленлаг…
если б всячий хрык на советский клык
то не мнямки б ни жнямки ни чай
так вперды за елды за елтак кочевой
за бучюньки виячий атас
и пусть каждый гланык за советский балык
в рот манется, а нет – тыкваквас!
…помолчав немного, я отошел от микрофона. Почему-то, на меня смотрели с ненавистью. Я пожал плечами. Жаль, подумал я. Услышал голос за спиной, уходя.
– Поймите, – сказала Вика.
– Это настоящий поток сознания, – сказала она.
– Мы только что присутствовали, – сказала она.
– При творческом озарении, – сказала она.
– Это как если бы Джойс написал перед нами, – сказала она.
– Своего бессмертного Улисса, – сказала она.
И хотя я не читал ни Джойса, ни Улисса, ни Вику, но все равно остановился.
…Вика оказалась очень компанейской девушкой, и провожала членов кружка «Пегас» из своего поэтического кафе до полуночи. Потом я помог ей мыть посуду, время от времени поглядывая на ее руки. Наверняка руки выдадут возраст, знал я. Но ее руки оказались молчаливыми, как партизаны на допросе в гестапо. Я увидел, что Вика тоже глядит на меня. В полумраке кафе ее глаза поблескивали. Я смущенно оглядел помещение. Небольшая квартирка, в которой снесли стены, и поставили барную стойку. Первый этаж, несколько цветов в кадках, рыбацкие сети на потолке, балка в деревенском стиле. Портреты бородатых мужчин в сюртуках на стенах. Мы домыли посуду, она сделала нам по чашечке чаю – она так и сказала «по чашечке чаю» – и уселась напротив меня за один из столиков. Обхватила плечи. Глянула исподлобья.
– Это кто? – сказал я, кивнув на портреты.
– Сколько тебе лет? – сказала она.
– Двадцать, – прибавил я себе год, как делали наши деды на священной Великой Отечественной Войне, а любовь ведь совсем как война, тут разбираться не приходится.
– А что, – сказал я.
– А вам сколько, – сказал я.
– Женщинам такие вопросы не задают, – сказала она.
– Почему? – сказал я, потому что правда не понял.
– Какой ты… девственный… – сказала Вика.
– Нет, я уже трахался, – сказал я.
– Кстати, это была Лера с «Муз-ТВ», – сказал я.
– Ну, в числе многих, – сказал я.
– Вы хотите меня? – сказал я.
Она раскрыла глаза еще чуть шире – они стали еще больше – и чуть покачала головой. Я резко встал, потому что интуиция подсказывала мне идти ва-банк.
– Что значит нет?! – сказал я.
– Я вовсе не сказала нет, – сказала она.
– Просто поверить не могу, – сказала она.
– Такой молодой, – сказала она.
Я отшвырнул столик, решив быть мужественным и стильным, как Антонио Бандерас, о котором я тоже читал в «Экспресс-газете», хотя фильмов с ним, к сожалению, не смотрел. Тряхнул головой, хотя пострижен всегда коротко. Сказал:
– Дай мне этот день, – сказал я.
– Дай мне эту ночь, – сказал я.
– Дай мне хоть один шанс, – сказал я.
– И ты поймешь, – сказал я.
– Я то, что надо, – сказал я.
– Где-то это я уже слышала, – сказала она.
– Заткнись и снимай платье, сучка, – сказал я.
…как и все поэтессы, и вообще культурные женщины, Вика оказалась очень падкой на ролевые игры женщиной. Особенно ей нравилось, когда ее унижали, стегали, шлепали, и называли проституткой клятой. Видимо, она таким образом компенсировала избыток Поклонения в обычной жизни. Ведь, как она сама мне призналась, почти все ее траханные молью коллеги по поэтическому кружку мечтают ей овладеть.
– Трахнуть, хочешь ты сказать, – сказал я, обрабатывая ее сзади.
– Дааааа, – сказала она.
– Так и говори прямо, сучка ты этакая, – сказал я.
Она ничего не сказала, вздрогнула, и кончила. Вот чего ей не хватало в этом ее кружке. И, как водится, все его члены, в данном случае в прямом смысле, сдували с нее пылинки, всячески ее Обожали и Боготворили, писали ей стихи и посвящения, в общем, теряли попусту время. Пока они это делали, моя Вика, моя возлюбленная, разогревалась на медленном огне желания – ничего метафора, да? конечно, я ее где-то слышал, но, по слухам, сейчас можно заимствовать без проблем, эпоха постмодерна, – и ее мохнатка поджаривалась, как мидии в сухарном соусе, а половые губы пылали ярко, как густо напомаженный рот. Она вся была уже слегка подгоревшая, как курица-гриль, которая так и не дождалась своего покупателя в этот вечер, и которая провела ночь в целлофановом пакете, чтобы с утра вновь отправиться на гриль. Ей было 39 лет и ее не имели больше года, когда она встретила меня, 19—летнего.
Можете себе представить, как нам повезло.
В тот вечер в кафе все закончилось тем, что я велел ей взять сапоги в зубы и нести их за мной, пока я хожу по периметру помещения, разглядывая портреты классиков. Слава Богу, под каждым из них была подпись, так что мне не пришлось угадывать. Я выключил свет, и в слабых отблесках фонаря с улицы на зеркальных поверхностях столов улавливал отражении ее белой, пышной, шикарной, горячей задницы.
– Ущелье, – сказал я.
– Нравится, – сказала она.
– Еще как, – сказал я.
– Прямо как этот писал, – сказал я.
– Кто? – сказала она.
– Забыл, они вечно двое как Бивис и Батхед, – сказал я.
– Который про чудное мгновение? – сказала она.
– Нет, забияка, Грозный штурмовал, – сказал я.
– Лермонтов, – сказала она.
– Во, точно, – сказал я.
– Ущелье горной реки, – сказал я.
– Там правда водопад, – сказала она.
– Зачерпни, и размажь себе по лицу, – сказал я.
– Ох, – сказала она, и снова задрожала.
– Какие вы легковозбудимые, – сказал я.
– Поэтессы, – сказала она.
– Шлюхи, – сказал я.
Бедняжка упала на бок и заскулила. Я поставил ногу на ее ягодицы. Было горячо, как в бане. Прямо напротив меня висел на стене портрет какого-то долбоеба с нахмуренным видом.
– Это что еще за чмо, – сказал я.
– Некрасов, – сказала она.
– А кто? – сказал я.
– В смысле, – сказала она.
– Ну, если не Красов, то кто? – сказал я.
– Да какая разница, – крикнула она.
– Бери меня! – крикнула она.
Я рывком поднял ее и бросил на столик.
Навалился.
* * *
Спустя несколько месяцев мы с Викой буквально преобразились.
Я стал степенным, солидным, уверенным в себе мужчиной. Говорил не торопясь. Жил, не беспокоясь. Что бы ни случилось, знал я, вечером меня ждет моя женщина, которая снимет с меня обувь в прихожей и отсосет там же, после чего поползет на коленях на кухню, где уже сварена для меня солянка. Вика тоже расцвела, стала еще краше. Стала куда менее нервной, намного более уверенной. Мой большой твердый хуй – конечно, в отзыве под статьей про Леру я слегка преувеличил, но 22 сантиметра есть точно, даю слово, – стал для нее осью мироздания.
Она схватилась за него и обрела точку опоры.
Я работал, а вечером приходил к ней в кафе, где помогал. Поэтишки и писателишки бросали на меня взгляды, полные ненависти, а мне было все равно. Я поставил им условие: хочешь сидеть в кафе, потрать за вечер не меньше 10 долларов. Не хочешь, уебывай. Еще я договорился со знакомым парнем, который делал контрафактную водку на Центральном рынке, и он начал нам ее поставлять, буквально в канистрах. Так что у нас была самая дешевая водка в городе. И на 10 долларов можно было выпить, как везде на 50.
Так что потруханные писателишки и поэтишки ныли, но тратили деньги у нас.
И не только они. Постепенно к нам потянулся нормальный контингент: бомжи, полицейские, проститутки, офисные клерки. Мы стали даже готовить обеды и ужины. Ничего особенного, просто разогревали полуфабрикаты в микроволновке. Конечно, это было для состоятельных клиентов: полиции и бомжей. Остальные предпочитали напиваться. Правда, ровно в полночь мы закрывались, убирались, мыли посуду, после чего я трахал Вику на столике и на полу.
Чтобы уже потрахаться, как следует, у нее дома.
Куда я перебрался жить на первое же утро нашего знакомства. Никаких вещей мне брать с собой не пришлось, потому что мой отец, инженер завода «Мезон», сказал, что его в 16 лет родители выпустили в большой мир без пары трусов и что каждый мужик должен сам себе зарабатывать на жизнь. И что я и так уже засиделся, раз уж мне девятнадцать, а не шестнадцать. Я слушал его нотации, забирая свою зубную щетку и папочку листочков со стихами. Я не то, чтобы стал поэт. Просто Вика посоветовала мне делать это для общего развития. Попрощавшись с папой и мамой, я поехал в свой новый дом. По пути написал маленькое стихотворение.
прощай немытая квартира
страна задолбанных рабов
забитой мойки до отказа
страна нестиранных носков
вечерних видеопросмотров,
невкусных завтраков с похмела
скандалов, дрязг, немножко свинга,
и мусора, что не подмела
моя усталая мамаша, чью жизнь скалечил
тот тиран,
что мне трусов с собой не дал
Кстати, на мне действительно не было трусов.
Так что я, когда Вика открыла дверь, расстегнулся, и положил руки ей на плечи. Надавил. Она встала на колени, и, почему-то, заплакала.
– Как же я долго ждала тебя, – сказала она.
– В любви и ненастьях, – сказала она.
– На слежавшемся насте, – сказала она.
– Дай запишу, – сказала она, но я схватил ее за волосы и не пустил.
– Соси, – сказал я.
Она так и сделала.
* * *
Следующие несколько дней мы играли в тургеневскую девушку.
Это Вика попросила. Я, признаться, не очень был в курсе, что это за девушка была такая у Тургенева, но Вика мне все объяснила. Мне понравилось, потому что ее платье для такой игры очень напоминало те, в котором снимались в порнухе монашки. Ну, из фильма «Обитель Женевьевы». Серое, до пят. Вика закутывалась в шаль, читала стихи, и писала письмо Тургеневу, в Париж, Настоящими чернилами! Потом в комнату забегал я, в кирзовых сапогах, и рубахе-навыпуск, и принимался всячески ее ругать. Она требовала даже, чтобы акцент у меня был, как у приказчика в фильмах про старинную Россию.
– Разлеглася гулящая такая! – кричал я.
Вика вздрагивала и прикрывала лицо руками. Но я знал, что она уже вся идет пятнами, и течет, как сучка ебливая. Но не спешил задирать платье, а просто вырывал из рук Вики письмо Тургеневу. Рвал его на мелкие части. Обычно Вика успевала написать лишь несколько фраз. Я хорошо запомнил первую.
«Сегодня, в наше нелегкое время, когда в пору бездуховности и полного отсутствия культуры в городе Кишиневе…»
Почему-то, у меня вставал всегда именно на слове «бездуховность».
Я срывал с Вики платье, хлестал ее полотенцем, гонял по всему дому, чтобы, дрожащую, и причитающую, зажать где-нибудь в углу, и, наконец, трахнуть.
Так мы и развлекались.
Пока в один прекрасный день крыло несчастья не коснулось нашего союза.
В Кишиневе запретили продавать спиртное после девяти вечера.
* * *
К сожалению, обойти закон не получалось, штрафовали действительно сурово.
Это вовсе не значило, что власти решили бороться с пьянством. Это значило, что власти собираются открыть свою точку по продаже спиртного, чтобы зарабатывать без конкурентов. Это-то и бело страшнее всего. В течение недели мы потеряли почти всю клиентуру. Помню, особенно возмущался один, лысый, безобразно накачанный коротышка, Лори… Лоинков? Он все вопил, что не потерпит, не позволит, и тому подобную чушь
–… в рот! – кричал он.
– Да дешевое и доступное спиртное! – кричал он.
– Единственное, ради чего мы терпи вашу Молдавию… – кричал он.
Полицейские, которые, как и все полицейские, которые страдают с перепоя, и не могут похмелиться, очень большие патриоты, разозлились и поволокли пьянчужку в участок. Он очень смешно верещал и все кричал, что написал какой-то там шедевр.
– Это действительно правда? – сказал я Вике, пока она подсчитывала убытки.
– Говорят, что да, – сказала она.
– А так, никто не знает, – сказала она.
– Это же писатели и поэты, милый, – сказала она.
– Они не читают друг друга, – сказала она.
– А это вдобавок МОЛДАВСКИЕ писатели и поэты, – сказала она.
– Они ВООБЩЕ ничего не читают, – сказала она.
– Даже меню, – сказал я.
– Даже меню, – сказала она.…
в ту ночь мы впервые не трахались, а просто лежали, прижавшись друг к другу, как испуганные дети. Квартира была не Вики, и бар она арендовала. Значит, если мы не найдем денег, знал я, мы потеряем все. В это время в окне появилась Луна. Она блестела, как денежка. А еще – как символ компании, в которой я развозил почту.
Меня озарило.
Я успокоился и у меня встал.
Я сел на грудь Вике и поерзал. Она проснулась.
– А, любимый, – сказала она.
– Соси, и ни о чем не думай, – сказал я.
– Утро вечера мудренее, – сказал я.
* * *
…Весь второй этаж дома мы обставили книгами.
Честно говоря, Вика их тоже не читает, ей попросту некогда. Но как антураж это идеально. Она приходит туда в короткой юбке и гольфах, и просит прощения за то, что потеряла томик Достоевского. И она умоляет меня простить ее, и просит поскорее отпустить на занятия в ее 10 класс, где она староста. А я, в костюме и очках, хлещу ее, издевательски допрашиваю, и говорю, что за каждый томик Достоевского она расплатится всей красотой мира.
Ну, слезинками, вы что, совсем не в теме?
Иногда она «теряет» Толстого, тогда наказание более суровое. Если у нее месячные, то мы ограничиваемся какой-нибудь мелочью – «шолом алейхомом» там или «багрицким», – и не наказываем Вику Слишком уж. А вот если все в порядке и мы оба в настроении, то за разорванную страницу Стендаля и «потерянного» Сервантеса я ее даже содомирую!
На первом этаже мы готовим, и сидим в креслах, глядя на море, которое подбирается к дому во время прилива. Да, нам хватило на небольшой дом у моря. Оказалось, что все эти люди, которые отправляют срочную почту, довольно часто вкладывают в конверты деньги.
Это большая оплошность с их стороны.
Когда мы с Викой насчитали вечером почти 200 тысяч евро, 100 – долларов, и еще сколько – то там леями, мы были приятно взволнованы.
Даже растаял неприятный осадок из-за того, что нам пришлось убить шофера.
Ну, и еще парочку дебилов из «ассоциации русских писателей и поэтов города Кишинева», которым мы выбили зубы, – чтобы не опознали – и которых сожгли. Получилось, что шофер хотел украсть все деньги, и убил нас, а потом умер от ран, которые мы нанесли, обороняясь. Совсем как в романах Чейза, сказала Вика, но я не знаю, так это или не так, потому что не читал никаких романов Чейза.
И вообще не читаю.
Мы сбежали из Молдавии через границу с Приднестровьем, и добрались паромом в Стамбул, откуда подались в Болгарию, оттуда – снова в Турцию, и, поплутав, пересекли океан и осели кое-где, на берегу моря. В доме с двумя этажами. Нам с Викторией хорошо. Она моя рабыня, я ее господин. Все как в стихах у этого долбоеба, Некрасова. Единственное, я не понимаю, почему он всех так жалеет. Ведь приказывать и подчиняться и есть жить по-настоящему, сказал я Вике как-то. Она согласилась, надела чулки в крупную сетку, и отправилась наверх, вставать у стеллажей раком.
Ждать меня столько, сколько я пожелаю.