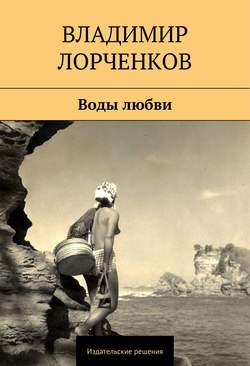Читать книгу Воды любви (сборник) - Владимир Лорченков - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Гляди в оба
Оглавление– Мы убили человека мы убили человека мы… – говорит он.
– Заткнись, – говорю я.
– Мы убили человека мы убили человекамыубиличеловека, – говорит он.
– Заткнись, – говорю я.
– МЫ УБИЛИ ЧЕЛОВЕКА, – говорит он.
– Я же говорил ГЛЯДИ В ОБА!!! – говорит он.
Смотрит на меня пустыми глазами и говорит еще:
– ТЫ убил человека, – говорит он.
– Вот еще, – говорю я.
– Слышь, ты, – говорит он.
– Ты убил человека, – говорит он.
– Я тебя умоляю, – говорю я.
– Это ТЫ убил человека, – говорю я.
– Потому что, пока я в этой машине сраной, – говорю я.
– Это считай ТЫ за ее рулем, – говорю я.
– Ну и что мы будем делать? – говорит он мне.
После этого мы с моим инструктором по вождению еще немножечко молчим. Так хочется верить в чудо! Так хочется верить, что сейчас в свете фар появится силуэт старушки, которая – как полагается после шока, – отряхнется и пойдет дальше, как ни в чем не бывало. Но в свете фар только пылинки. И кромешная тьма за светом. А все он.
– А все ты! – говорю я.
– Надо было, все-таки, хоть раз провести урок не в пять часов утра, – говорю я.
– И не в десять вечера, – говорю я.
– Жадничал, придурок, – говорю я.
– Выкраивал еще пару занятий, – говорю я.
– ТЫУБИЛЧЕЛОВЕКА, – говорит он.
Тут мы снова немного спорим: он доказывает мне, что с такими необучаемыми, стопроцентными кретинами с ПОЛНЫМ отсутствием чувства дистанции, – очень приятно, это я, – занятия если и проводить, то только, когда на дорогах пусто.
– Вот тебе и пусто! – говорю я.
Только такой тупой, необучаемый, совершенно неспособный к вождению кретин, – очень приятно, это все еще я, – мог, продолжает он, сбить старуху, которую заметил метров за сто, да еще и ехал на небольшой скорости. Тут мне крыть нечем. С самого начала занятий, – а на права я пытался сдать почти двадцать раз, став достопримечательностью местного ГАИ, – у меня не заладилось. Вижу, что впереди кто-то есть, а сам словно в оцепенение впадаю. Уж они и просили меня, и умоляли.
А я все равно записался на очередной курс, и пошел третий год моего обучения.
Которое, вот, прервалось.
Он ведь и поседеть уже – говорит инструктор – успел за эти два года. Нечего было свистеть про то, что необучаемых нет, говорю я. С другой стороны, – говорит инструктор, – лучше сбить старуху, которой приспичило вывести своего мопса поссать в пять утра, чем попасть в аварию с автомобилем. Тут мы впервые приходим к общему знаменателю. После чего, все-таки, решаемся выйти из машины и глянуть, что же там у нас лежит впереди. Результаты осмотра – как пишут в газетах, а я сам в них какое-то время работал, и разговаривать языком отчета стало моей плохой привычкой – не обнадеживают. Тут меня впервые начинает трясти.
– Сбросим ее в канаву? – говорю я.
– Вызываем полицию, – говорит он.
– Сидеть в тюрьме?! – говорю я.
– По любому поймают, тогда точно сядем, – говорит он.
– А так? – говорю я.
– Откупимся, – говорит он.
И вызывает полицию. После чего закуривает, и спрашивает меня, наконец.
– Так в чем же дело? – говорит он.
– Очки, – нехотя говорю я.
– Что очки? – говорит он.
– Ну, мне бы надо, – говорит я.
– На кой? – говорит он, но уже, кажется, начинает понимать.
– Понимаешь, – говорю я.
– Я и лица-то твоего не очень вижу, – говорю я.
– Просто… – говорю я.
– То есть ты хочешь сказа… – говорит он.
– Ну да, – говорю я.
– Минус шесть, а таблицу я выучил, – говорю я.
– Апх… ыпх.. – говорит он, вспоминая все наши рискованные маневры.
– В общем… – говорю я.
– Мне никогда не шли очки, – говорю я.
Тут он начинает смеяться, потом судорожно всхлипывает, а затем икает и пытается на меня наброситься, спотыкается о труп, встает, снова бросается… да не тут-то было.
Полиция приехала.
* * *
Первое, о чем меня спросил судья, было:
– Почему не говоришь по-румынски? – спросил он.
–… – промолчал я по-румынски.
– Почему не говоришь по-румынски? – спросил он.
На окне не было занавески, поэтому кабинет был залит солнцем. Июнь месяц. Мужа жужжала где-то в углу. Кажется, прямо над головой гипсового Штефана (легендарный основатель Молдавии – прим. авт.). Судья укоризненно смотрел на меня, постукивая пальцами. Я молчал, глядя в стол, разыгрывая сожаление и раскаяние. Это напоминало мне урок румынского языка в школе. Да и все остальные уроки в школе.
– Вашу мать, – сказал судья.
– Понаехали… затрахали уже, – сказал он.
– Сколько лет здесь живут, а языка не знают, – сказал он.
– Я зна… – вякнул было инструктор.
– А ну молчать говно! – рявкнул судья.
– А то я тебе разжигание национальной розни как впаяю! – сказал он.
–… – смолчал инструктор.
–… – виновато поежился адвокат.
Кроме нас и судьи с секретаршей – пожилой бабешкой лет шестидесяти, очень похожей на буфетчицу и сенатора Собчак одновременно, – в кабинете никого не было. Слава Богу, мы сбили одинокую старушку, и никого у нее, кроме мопса, не было. Так что, может и к лучшему, что мы и мопса сбили. А то бы он страдал.
– Вы чмошники, – сказал судья.
– Вы достали не говорить по-румынски, вы где живете? – сказал он.
– Да мы говорим по-румы… – сказали хором инструктор и адвокат.
Это была правда. Они оба говорили по-румынски. В отличие от меня. Но я благоразумно их не поддержал.
– Заткнулись оба! – сказал судья.
– Мля, сколько лет, а не говорят по-румынски, – сказал он.
– Или, может, трудно было выучить? – сказал он.
– Да я говорю по-румы… – сказал было инструктор.
– Перечить мне вздумал, ты, – сказал судья.
– Пять лет колонии! – сказал он.
Инструктор побледнел и у него начали дрожать руки. Я сохранял спокойствие духа, потому что пришел на заседание пьяным. К тому же, передал через адвоката взятку. Пять тысяч долларов. Да, немного, но ведь я был курсант и виноват во всем инструктор!
– Ты, десять лет! – сказал судья адвокату.
– Я адвокат! – сказал адвокат.
– А! – сказал судья.
– А чего не говоришь по-румынски? – сказал он.
–… – благоразумно промолчал адвокат.
– Так, кто у нас тут остался… – брезгливо сказал судья.
– Гхм, – сказал по-румынски я.
– Лоринков, – сказал судья.
Смерил меня взглядом.
– Я раскаиваюсь, я очень раскаиваюсь, – сказал я по-румынски фразу, которую учил всю ночь, и на всякий случай, написал на бумажке.
– Ну вот, – сказал судья.
– Какой-то гребанный русский приехал сюда вчера и уже говорит на языке страны, – сказал он.
– Которая его накормила, напоила, обогрела, – сказал он.
– А вы, уроды, НЕ ЗНАЕТЕ РОДНОГО РУМЫНСКОГО ЯЗЫКА, – сказал он.
–… – инструктор и адвокат молчали.
– Ладно, уматывайте, – сказал судья.
– А… – жалко сказал инструктор и лицо у него задрожало.
–… – поднял на него взгляд судья.
Адвокат наклонился к нам и зашептал:
– Деньги от одного или обоих? – спросил он меня по-русски, потому что по-румынски я ни хера не понимаю.
– ТЫ УРОД ЧЕГО ТЫ ТУТ РАЗВОДИШЬ МНЕ СВОИ СРАНЫЕ БАЗАРЫ НА РУССКОМ, – сказал судья.
– Ты не знаешь своего языка… даже русский этот гребанный знает, – сказал он.
– Стыдись, – сказал он.
Адвокат заплакал. Инструктор дрожал. Я сжалился. Показал судье два пальца. Сказал:
– Пентру дой, – сказал я («за двоих» – стандартная фраза на румынском при оплате за двоих пассажиров в общественном транспорте – прим. В. Л.)
Он грохнул молотком по столу и выгнал нас.
* * *
Первым делом после заседания суда я добавил.
Инструктор, которого мне пришлось чуть ли не тащить с собой, тоже не отказался. Я оглядел его внимательно и был вынужден признать, что парень очень сдал за эти два с половиной года.
– Ты поседел, товарищ, – сказал я.
–… – ничего не сказал он, и выпил свое пиво залпом.
– Ладно, – сказал я.
– Даю слово, что я справлю себе новые очки, – сказал я.
– И мы с тобой сдадим, наконец, на эти чертовы права! – сказал я.
– Сорок евро, – сказал он, чуть не плача.
– Сорок евро стоят права после первого курса обучения, – сказал он.
– Купи и исчезни из моей жизни, – сказал он.
– И, конечно, НИКОГДА не садись за руль, – сказал он.
– В том-то и дело, – сказал я.
– Во мне пропадает гонщик, – сказал я.
Он выпил еще два пива залпом и попросил еще.
Когда я уходил, бедняга тупо смотрел красными глазами в оседавшую пену, и все твердил, что я погубил его карьеру. Можно подумать, хотел сказать ему я, – что она предел мечтаний. Вся эта трахотня с бездарными ублюдками, которые третью скорость от пятой отличить не могут. А ведь это так просто, хотел сказать я. Правда, не сказал.
Так и не вспомнил, чем они отличаются.
* * *
– Ну и ну, пацан, – сказала врач.
– Пипец котенку, – сказала она.
– Что вы хотите сказать? – сказал я.
– Почему бы тебе не пойти на курсы массажа? – сказала она.
Если бы меня к тому времени не развезло, я бы встал и ушел. Но меня, конечно, развело. Так что я молча и тупо – страшно потея, как мышь, которую траванули дифхлофосом, а потом бросили в кошачий питомник, – дал ощупать себе голову. Это она подбирала оправу. Со временем мне даже понравилось, и я задремал. Тем более, что в кабинете тоже было много солнца, и врачиха была вполне еще молода. Лет сорока. Моя таргет-группа, хотел было я сказать ей, но даже это поленился сделать. А она все терлась об меня и мерила мою голову так же тщательно, как какой-нибудь израильский паспортист – у приезжего гоя, ну, или нацистский доктор – у дедушки израильского паспортиста. Ах, все мои антисемитские штучки, хотел было я попрекнуть себя, да не смогу. Говорю же, блядь, разморило. Врачиха все бормотала.
– Правый значит, на минус… – бормотала она.
–… есть, пятнадцать, два кроко… – шептала она.
– Короче пацан, если не ослепнешь, то повезе… – говорила она.
–… ишечка, с загло… – говорила она.
–… лекательный эффект дадут две разные линзы с фоку… – говорила она.
–… ли бы знали в мире этом, то они бы нипоче… – говорила она.
–… льный цикл никакого отношения к миру окули… – говорила она.
И еще что-то, но я не запомнил. А очнулся с легкой головной болью, глядя, как она выписывает счет. Причем видел я это буквально, до малейшей черточки.
Очки и впрямь оказались подходящими.
* * *
Но самым удивительным оказалось не это.
Удивительным оказалось, что врач не соврала (!) и очки правда оказались с удивительным эффектом. Они позволяли видеть… через одежду. Как объяснила мне врач – уже по телефону, – тут все дело было в разной толщине стекол, величине спектра, бифокальности линз и тому подобной наукообразной хрени. В результате, я за два часа увидел столько лобков, сколько за всю свою жизнь не видел. А видел я их – даже с учетом своей сильной близорукости, – немало.
Это, кстати, было не так сложно.
Оказалось, мало кто из женщин нашего города носит трусы. И не только!
Ах, если бы вы знали, чего еще только не носят женщины в нашем городе…
Так что, когда я быстренько перетер все с врачихой, резко оборвав разговор на том самом месте, когда она пыталась сподвигнуть меня поехать с ней на какой-то там мега-консилиум – представив, как мне потрошат глаз под внимательные «йа-йа» сообщества мировых светил, – то решил резко сменить сферу деятельности.
Взял аванс за полгода вперед в газете, где прозябал тогда на должности криминального репортера, да свинтил со съемной квартиры, где задолжал за пару месяцев. Я знал, что меня ждет новая жизнь, в которую я – из старой – не возьму ничего, кроме, разве что, автошколы. В остальном же я жаждал новых свершений. Модельный бизнес ждал меня!…
к сожалению, первый же мой день работы в модельном агентстве «Мандаринка» – лучшие шлюхи города для экскорт-вечеринок и проститутки во Францию и Италию, – обернулся для меня плохо.
Я буквально понял, что значит «горечь потери».
Особенно, если эта потеря – твой глаз.
А началось все, – как в случае со старушкой… как ВСЕГДА все начинается, – с фразы «а началось все» и вполне обычно.
В агентство пришла какая-то идиотка-мамаша, которая хотела бы, чтобы ее 16—летняя дочь стала Моделью и чтобы у нее Сложилось В Жизни. Девчонка ничего не умела – я говорю об английском, физике и рукоделии, – и мамаша клала бы на нее все 16 лет ее жизни, будь у мамаши хер. Но у нее не было хера – теперь я это видел даже под чересчур короткой для 45—летней дамы юбкой, – так что она просто не занималась воспитанием и образованием дочери. Гребанные бессарабцы! Вечно они хотят поиметь все, ничего для этого не делая.
– Будь девчонка мальчишкой, мамаша отдала бы ее в фотографы! – сказал я.
Мой новый начальник лишь покосился. Он, конечно, всюду бегал с камерой за 5 тысяч у. е. – мать твою, да на эти деньги от двух трупов откупиться можно! – и увлекался Постановкой, Ракурсом, Светотенью, и тому подобным говном.
Так вот, девчонка.
Несмотря ни на что, она была симпатичная, вполне сексапильная, – очарование молодости, понимаете, что я хочу сказать, – но попросить ее раздеться сразу же было бы чересчур. Тут-то на сцену и выступил я, успевший поразить руководство компании – почтенных сутенеров, а в молодости спортсменов и продавцов травы, с которыми я когда-то занимался всем этим (и спортом и продажей травы) – своими новыми способностями. Просканировав малолетку, я слегка киваю головой, и два раза постукиваю пальцем по столу.
Это значит – слегка подбрита.
Вам правда интересно? Ну, хорошо.
Три раза – вообще нет.
Один раз – да, полоской.
Два – слегка по краям.
Четыре раза – старый добрый армейский «ноль».
Пять раз – клинышек.
Да, не сложнее, чем «морзе». В общем, под одеждой с девчонкой все было ок. Директор агентства важно кивает, достает кучу бумаг, выписывает чек на двадцать евро – да, эти идиотки еще и платили, – за «процедуры и формальности с документами», и грузит мамашу по полной. От «встречи в аэропорту» до «под патронажем президента республики». Про патронаж, кстати, правда.
«Крышевал» фирму президент республики.
Мамаша тщательно делает вид, что ни черта не понимает – а может и правда не понимает, – дочка краснеет (да-да, даже ТАМ, мне же видно) а я ничего не могу с собой поделать.
И смотрю, смотрю, смотрю.
…Тут-то в кабинет и залетает какой-то приблатненный дворовой кретин лет восемнадцати. Влюбленный в эту самую девчонку и СОВЕРШЕННО не разделяющий идеи ее мамаши «отправить дочь учиться на модель в Париж». И который – как принято у приблатненных подростков, – очень показно Страдает и хочет поделиться своей Скорбью со всем миром. Но едва я открываю рот, чтобы сказать ему, что тем же самым – дефлорация и пойти по рукам, – для нее все закончится, если она останется в Кишиневе… причем по рукам ее пустит именно он… как паренек, выкрикивая всякие глупости, налетает ПОЧЕМУ-ТО на меня. Человека, который работает тут первый день!
И кричит:
– Пялишься на чужую Девчонку сука, – кричит он.
– Мля на за любовь, – кричит он.
– За мое разбитое сердце! – кричит он.
– Стелуца знай я любил тебя! – кричит он.
Так мы узнаем настоящее имя нашей Анабелы-Аделаиды.
Мамаша с дочкой краснеют. А паренек танцует вокруг меня с ножом в руке, воображая себя мастером капоэйры, у которого вместо руки выросла умелая нога. В коридоре – я вижу приоткрытую дверь, – толпятся его ровесники. Отбросы сраные, второсортный материал, который из себя нынче представляют 75 процентов населения города. В Совке бы их устроили в армию и на завод, а сейчас никому до них дела нет, вот они и рыгают на День Вина на площади Кишинева, тщательно маскируя этим свой майн кампф за национальное самосознание.
По крайней мере, именно так я писал в колонках в газете, которую обокрал перед увольнением…
И все они шумят и поддерживают Пацана Пришедшего Сразиться За Свою Любовь. Гопота без маек, в шортах и резиновых тапочках. Гребанный Кишинев, хочу сказать я. Пока мои коллеги-начальники смеются, я, осторожно уклонившись от ножа, хорошенько и коротко размахиваюсь, чтобы вырубить урода и чтобы они никого с испугу не зарезал. Ловлю на противоходе. Бью малолетнему засранцу в висок. Он падает.
Насмерть.
* * *
…Судья, конечно, очень расстроился.
Но за 10 тысяч и фразу на румынском «я искренне раскаиваюсь в том, что не сумел поймать ребенка упавшего в обморок на моих глазах» – я учил ее все две недели подготовки к процессу, – меня оправдали. Лучше бы, закрыли хоть на месяц, думал я позже. Но в жизни всегда так. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи, как говаривал моя дядя-бандит, который, представьте себе, живет в Сочи. А я, увы, в Кишиневе. Так что, когда я вышел из зала суда, на меня набросилась эта самая Стелуца-Изабелла-Аделаида. Которая, в полном соответствии с дворовым кодексом, покаялась в том, что не любила Пацана…
Она бросается ко мне, взмахивает рукой – и тут я, как со сбитой старушкой, словно цепенею, и, вместо того, чтобы отскочить, все гляжу гляжу да гляжу, как медленно колышутся ее большущие, не по возрасту, сиськи, – и бьет меня по лицу.
И я перестаю видеть, как следует. Думал, сучка разбила очки. А оказалось все хуже.
Она воткнула мне «финку» в глаз.
* * *
Новые очки я справил за полцены.
Правда, это совершенно ничего не решало. И дело вовсе не в том, что меня не устраивало быть с одним глазом. Вся фишка в Роке. Если бы я посещал лекции по литературоведению, – вместо которых мы пили по-черному в общежитии, – объяснил мне позже один сокурсник, я бы знал кое-что.
– А именно, предопределение, – сказал он.
– Эта фигня, как в театре, – сказал он.
– Когда судьба дает первый звонок, – сказал он.
– То она даст и второй и третий, – сказал он.
– Так что если ты слышишь первый, то все, – сказал он.
– Пипец котенку, – сказал он.
– Ты имеешь в виду, мопсу, – сказал я, вспомнив своей первый звонок.
– Да по фигу, – сказал он.
– Если ты попал, то ты попал, – сказал он.
А я уже ничего не сказал, а просто молча доделал ему массаж. Потому что, знаете ли, потеряв второй глаз, я устроился, как мне окулист и советовала, на курсы массажа и завел себе собаку-поводыря.
Ах, да, совсем забыл.
Ну, после того, как я выписал себе новые очки и вставил искусственный глаз и продолжил разглядывать девок в агентстве оставшимся – чудо-очки сохраняли такую возможность, – у меня стали пошаливать нервы. Мне везде стали мерещиться придурки с ножами, которые придут спасти своих хорошеньких возлюбленных из рук таких ублюдков, как мы. Ребята надо мной смеялись, но я с первых же процентов купил металлоискатель.
Потом – рентген.
Определитель ядовитых веществ в воде и еде.
Датчик определения радиации в воздухе.
Ведь все эти приборы, знаете, это источник радиации похлеще Фукиямы, или где там японцы не справились. Ну, а под конец, я уставил весь офис кактусами, потому что они абсорбируют радиацию.
Ребята – прикола ради, накалывали на них листочки с напоминаниями. Маленькие такие желтые листочки.
Ну, знаете, как в офисах:
«… встреча в 19.00… ланч с утра… канцелярские товары с полдень… перетереть с Ивановым насчет поставок… вдуть секретарш…»
К сожалению, это очень маленькие листочки, а зрение у вас, если вы теряете один глаз – пусть даже и умеете видеть оставшимся женщину под одеждой, – становится одномерным.
И вы не всегда правильно оцениваете расстояние между объектами.
Мой, правда, инструктор вождения всегда говорил что я И АК не умею правильно оценивать расстояние между объектами.
Полагаю, с учетом пережитых нами неприятностей на дорогах, у него были некоторые основания так считать. А уж после потери правого глаза моя ошибочная оценка расстояний между предметами, – как объяснила мне окулист, – ЕЩЕ БОЛЬШЕ стала ошибочной. Так что я, – пытаясь рассмотреть, что написано на одной из таких бумажечек, – неудачно наклонился.
И выколол себе второй глаз иглой кактуса.
Вот и вся история. Все получилось, знаете, как в американских комедиях. Ну, когда старик поскальзывается на кожуре банана, падает в коляску с младенцем, та несется по дороге, шофер на встречной выворачивает руль и въезжает в статую Свободы… Примерно так все и было, за исключением статуи Свободы. Чего-чего, а этого не было.
…ну и, говоря языком моего приятеля, – который посещал лекции, а не пил в общежитии, как я, – после третьего звонка судьбы я перестал выпендриваться, а просто пошел и занял свое место в зрительном зале. По горькой иронии судьбы, оттуда ничего не было видно. Я закончил курсы массажа, и впервые в жизни стал зарабатывать больше, чем тратил. Не то, чтобы я зарабатывал очень много. Просто тратить перестал.
Без глаз ведь особо не разгуляешься.
А в один прекрасный день на мой стол легла Изабелла-Аделаида-Стелуца.
Узнав ее по изгибам тела, я некоторое время размышлял, не удавить ли мне причину всех моих бед. Но мысль о том, что мне придется раскошеливаться еще раз – тысяч на 30, не меньше, – и учить на румынском что-то вроде «с радостью говоря на языке приютившей меня страны, языке Эминеску и Григорие Виеру… я бы хотел заявить, граждане судьи, что безо всякого злого умысла…» остановила меня. Так что я простил ее, тем более, что и она не держала на меня зла за своего безвременно ушедшего жениха. Мы стали жить вместе, а иногда я потрахиваю и ее мамочку. В протяжных криках, которые она издает, мне чудится завывание античных парк, а в стуке софы, которую я все никак не починю – пощелкивание их спиц. Но я стараюсь думать об этом пореже и верить в свою счастливую судьбу, и что злоключения мои кончились. Ведь в театре четвертого звонка не бывает. Да и глаз у меня больше нет.