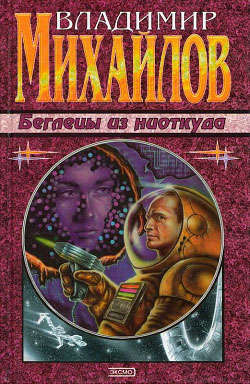Читать книгу Беглецы из ниоткуда - Владимир Михайлов - Страница 8
Часть I
Глава 8
Бытие
ОглавлениеПриняв решение, Истомин круто повернулся и зашагал в направлении туристической палубы: иными словами – к жилым корпусам. Точнее – в сторону трапа, выводившего в верхнюю часть главной шахты корабля. Если бы он захотел навестить в первую очередь механизмы, пришлось бы идти к нижнему отрезку шахты, то есть в противоположном направлении.
Поравнявшись с лифтовым колодцем, Истомин на миг приостановился: искушение воспользоваться механическим транспортом было сильным. Но для этого пришлось бы звонить Рудику и просить его включить лифты: инженер по-прежнему исправно отключал на ночь механизмы, без которых можно было обойтись. Будить же его не хотелось: писатель был едва ли не единственным, кто знал, с какой затратой сил постоянно работал инженер, потому что в трюмном корпусе Рудик появлялся часто, а в жилом – практически никогда. Так что пришлось подниматься по винтообразному трапу внутри шахты.
Это едва не кончилось для него плохо.
Истомин уже почти добрался до катерной палубы, когда ощутил внезапное и сильное головокружение. И одновременно почувствовал, что ноги его отрываются от ступенек трапа. Не держись он крепко за поручень, он взлетел бы над трапом – чтобы в следующее мгновение сорваться вниз, в шахту: гравитация включилась так же неожиданно и самопроизвольно, как и выключилась. Но и сейчас, грохнувшись о ступеньки, он основательно ободрал колено и дальше поднимался, ощутимо прихрамывая.
В катерный эллинг ему было не попасть: механизмы доступа туда из шахты были настроены лишь на сенсорику членов экипажа, а универсальный ключ имелся только у Карского – даже тут, в неведомом пространстве, он сохранял свои преимущества высокого администратора Федерации, членом которой корабль то ли был теперь, то ли нет (поскольку Королевство о своем вступлении в Федерацию не объявляло – об этом никто даже не задумывался: слишком отвлеченным это представлялось. А говорить с детьми на эту тему означало бы – показать, что они официально признаны. А так – еще можно делать вид, что все происшедшее – всего лишь ребяческая забава, не более).
Оказавшись на лестничной площадке, на которой была единственная дверь, надежно запертая – та, что вела к катеру, – Истомин на всякий случай остановился, прислушиваясь: не донесется ли из эллинга какого-нибудь подозрительного звука?
Нет, все было тихо. Так что если кому-нибудь из обитателей мирка и пришла в голову сумасшедшая мысль покинуть корабль – хотя бы для того, чтобы облететь вокруг обетованной планеты, что подрастала (принято было думать, что подрастала, хотя и намного медленнее, чем хотелось бы) невдалеке, – то он так и не смог бы добраться ни до одного из действовавших выходов. Значит, тут опасности не было.
Дальше путь писателя лежал в жилой корпус, а точнее – в сад. В свое время люди любили гулять здесь; тут было пусть и приближенное, но все же подобие живой природы. Но когда стало ясно, что настоящих деревьев, кустов, ручейков с натуральной, а не восстановленной водой им вовек не увидеть, желание бывать здесь как-то быстро сошло на нет, и теперь сад уже не казался более живым, хотя на самом деле все, что росло в нем, было совершенно подлинным. Просто вместо былой радости он навевал теперь тоску – а наше восприятие всего на свете зависит в первую очередь от нашего настроения, а не от качества того, на что мы смотрим. И писатель прошел через сад быстро, испытывая какое-то внутреннее неудобство, сутулясь и опустив глаза; ему казалось, что деревья – тоже, кажется, тоскующие по настоящей жизни – с укоризной смотрят на него.
Поэтому он испытал подлинное облегчение, когда смог наконец спуститься ниже (такова была архитектура), чтобы попасть в палубу первого класса. Туда, где после ухода Истомина и эмиграции молодых жило девять человек. Сюда удалось войти беспрепятственно. Писатель отворил дверь с лестничной площадки, прошел коротким коридорчиком и оказался в салоне.
Он старался ступать потише, чтобы не разбудить спавших, за переборками, в каютах. Ковер в салоне за годы успел вытереться, его тоже давно уже собирались заменить. Но руки все не доходили. Да и немножко боязно было загружать синтезатор такой работой: коврик-то был не маленький. А синтезатор – податель жизни – хоть и сам себя содержал в порядке, но моложе от этого все-таки не становился. Так что в ковровом ворсе протопталась до самой основы дорожка, и по ночам идти по ней лучше было на цыпочках. Если не хочешь, конечно, как бы невзначай поднять всех на ноги.
Но этого Истомин ни в коем случае не хотел.
* * *
Однако вдруг у него возникло совершенно другое желание. Насколько не хотелось ему видеть все то, что росло в саду – потому, что сад был как бы подделкой под настоящую, всеобъемлющую и многогранную жизнь, – настолько сейчас не то чтобы захотелось – нет, просто потребовалось увидеть то пространство, в котором они находились вместе с кораблем, ту пустоту, что вмещала и корабль, и возникавшую неподалеку от него новую планету, и далекие галактики, и еще (подумалось Истомину вдруг) многое такое, о чем обитатели «Кита» до сих пор не получили никакого представления и даже не догадываются, быть может. Не зря же в приснившемся ему сюжете кто-то атаковал корабль извне. И, сам не понимая, верит ли он в приснившееся или нет, писатель тем не менее хотел увидеть это самое пространство собственными глазами – скорее всего чтобы успокоиться.
Со времени своего переселения в грузовой корпус Истомин не бывал на прогулочной палубе и начал уже забывать, как выглядит пустота. Кроме того, ему хотелось увидеть еще и планету, давным-давно уже описанную им – может, чтобы убедиться, насколько он был тогда прав – или, напротив, до какой степени заблуждался.
Свернув с протоптанной дорожки, он подошел к переборке, нажал пластину замка, сомневаясь в том, что механизм сработает. Но матовая поверхность стены исчезла, и можно стало, отчего-то затаив дыхание, выйти на прозрачную прогулочную палубу и пройтись по ней, продвигаясь вдоль выгнутого борта, за которым сейчас мирно спали люди.
Истомин шел до тех пор, пока в поле его зрения не оказалась возникающая по воле населения «Кита» Новая планета. Петрония.
Увидеть ее удалось не сразу. Как черную кошку в темной комнате среди ночи. В освещенном корабле как-то забывалось, что вокруг него стояла вечная ночь, и планета тоже была неразличимо-темной: она не отражала света – потому что отражать было нечего. Лишь месяц-другой после выхода Петрова зародыш нового небесного тела освещался мощным прожектором с корабля; потом поняли, что это ни к чему – там если что-то и изменялось, то неуловимо медленно – и свет вырубили.
Лишь когда глаза как следует адаптировались к мраку, удалось разглядеть нечто еще более черное, чем всеобщая тьма вокруг – потому, может, что комок вещества, каким пока все еще оставалась планета, поглощал даже то исчезающе малое количество света, какое все же существовало здесь, невзирая на полное отсутствие доступных взгляду светил.
Итак, Истомин все-таки разглядел планету. И подумал, что лучше бы ему было не предпринимать этой попытки.
По его представлениям, за истекшие восемнадцать лет планета должна была ощутимо вырасти в объеме.
На деле же она была до убогости маленькой. Отсюда казалось, что даже одному человеку там не на чем было бы устоять.
Может, она и росла; но, пожалуй, пришлось бы взвешивать ее на точных весах, чтобы установить это. Пока же – Истомин смотрел, и ему показалось, что он различает очертания тела Петрова, все еще обнимавшего цилиндрический корпус гравигена. Хотя на самом деле, разумеется, увидеть Петрова Истомин не мог: уж настолько-то планетка выросла, чтобы накрыть своего основателя достаточно плотным пылевым одеялом.
Писатель даже не ожидал, что зрелище это до такой степени разочарует его и огорчит. Истомину больше не захотелось что-то делать, выяснять, искать. И, возможно, он повернул бы назад, так ничего и не найдя, если бы в следующий миг ему не почудилось, что совсем рядом – таково было впечатление – на миг вспыхнула молния; это слово, пожалуй, было самым точным.
Голубая яркая стрела, направленная как бы в борт корабля – примерно, как прикинул Истомин в следующую секунду, на уровне туристической палубы.
И одновременно он вновь ощутил уже знакомую вибрацию.
Не было ли это тем, что померещилось ему во сне?
Однако это оказалось не самым необычным.
В этой мгновенной голубой вспышке ему почудилось (нет, не почудилось, он голову дал бы на отсечение, что то было совершенной реальностью): какое-то тело неясных очертаний, но размерами, как ему показалось, соответствовавшее человеку, скользнуло в пространстве в том же направлении, что и яркая стрела: от зародыша будущей планеты – к кораблю. Тоже к туристическому корпусу.
Этого не могло быть, тем не менее Истомин ни на миг не усомнился, что увиденное им существовало на самом деле. Даже непонятно, откуда могла взяться столь непоколебимая уверенность.
Человек в пространстве, рядом с наглухо запечатанным кораблем?
Но, собственно, кто сказал, что «Кит» так уж надежно закупорен? Пассажирский выход был непригоден для использования, да. Но разве только один выход был на корабле, кроме пассажирского и грузового люков? Истомин не знал в подробностях устройства гигантской машины, но ему было известно, что именно входами-выходами столько лет занимался инженер Рудик. Судя по тому, что корабельных дел мастер никогда не выглядел разочарованным, переживающим неудачу, возникла уверенность, что восстановить систему люков ему удалось. И в последние годы их никто из строя не выводил. Знающий человек мог воспользоваться любым из них.
Кто же этот человек в пустоте? Истомин задал себе именно такой вопрос: ясно же было, что, кроме населявших корабль людей, здесь не могло быть ни единой живой души.
И все же первым, что пришло ему в голову, была мысль именно о человеке, давно уже не числившемся в живых. Истомин подумал о Петрове. О герое, пожертвовавшем собой для того, чтобы планета могла начать расти.
Петров покинул борт «Кита» почти точно восемнадцать лет тому назад. Истомин помнил, что через несколько дней все они должны будут собраться в салоне, чтобы отметить очередную годовщину этого события. Думая «все», Истомин не имел в виду детей: они не участвовали в этом печальном торжестве.
И что же – теперь он возвращался?
Нет, в это поверить невозможно. Человек не может восемнадцать лет существовать в пространстве, не получая помощи.
Если только – если только он действительно не получал ее.
Однако зачем было бы ему скрываться от остальных? Ответить на это писатель, разумеется, не мог. Во всяком случае, сразу.
Нет, не Петров, конечно. Глупости. Глупости.
В таком случае – кто же?
Ответ нашелся сразу.
Фигура направлялась от планеты к туристическому корпусу – туда, где обитала молодежь.
Дети! Как это он не сообразил сразу? Кто еще может нарушать покой? И чье неуемное любопытство, если не детское, могло побудить кого-то пойти на немалый риск, чтобы своими руками потрогать небесное тело, пусть и маленькое, с которым связаны все надежды обитателей «Кита» на будущее?
Дети. Их ведь – пока они не самоизолировались – обучали – на всякий случай – и пользованию скафандрами, и даже управлению катером – после того, как инженер вернул его к жизни.
Да конечно же! Он, Истомин, и сам ведь некоторое время жил в туристическом корпусе. И сейчас смутно вспоминал, что и там был выход. Он считался аварийным, и им не пользовались. Но он тем не менее существовал. И Рудик, кажется, чем-то занимался и там…
Черт побери! Дети! А что, если у них там что-то не заладится, и они разгерметизируют корабль? Самое малое, что может тогда случиться, – механизмы страховки отсекут туристический корпус от остальных помещений «Кита», и все, кто там находится, погибнут из-за катастрофического падения давления и отсутствия воздуха.
Они же ничего не понимают! Это же дети всего лишь!
Истомина охватил ужас.
Это сильное чувство сразу же вернуло его к повседневности. Он повернулся, быстро приблизился к выходу, закрыл за собою дверную пластину и направился к цели своего путешествия.
Уже когда он покидал салон, ему почудился знакомый звук: словно бы приотворилась дверь одной из кают.
Истомин, не оглянувшись, лишь ускорил шаги.
* * *
Его визит в обитаемый корпус остался незамеченным – или, точнее, хотя и был замечен, но никого не встревожил, наоборот – тут же позабылся. Карачаров – а именно он хотел было выйти из своей каюты в салон, – отворив дверь, увидел чью-то спину и, нимало не интересуясь тем – кто же это и почему бродит среди ночи по салону, – тут же затворил дверь и даже запер, твердо решив не откликаться, если даже к нему постучат. Желание прогуляться по корабельным окрестностям (а физик в нередкие бессонные ночи не раз предпринимал такие вылазки) сразу же исчезло: у Карачарова не было охоты встречаться сейчас с кем бы то ни было. Вот если бы это оказалась женщина… Но спина выглядела мужской, пусть и в халате. Насколько физик разбирался в силуэтах.
Карачаров хотел выйти из своей каюты потому, что несколько минут тому назад, когда он, целиком уйдя в размышления, привычно расхаживал по каюте взад и вперед, ему показалось, что пол на какое-то мгновение ушел из-под ног, все вокруг задрожало, и физик едва не растянулся на ковре. Но когда он, приотворив дверь, увидел спокойно удалявшегося человека, Карачаров предположил, что все, что с ним произошло, было лишь его собственным ощущением: просто на секунду закружилась голова – от усталости, от перенапряжения, мало ли от чего она могла вдруг дать такой сбой. Так что он успокоился, вернулся к столу и продолжал раздумывать над своими проблемами.
К бессонным ночам, когда уснуть удавалось лишь утром (зато потом можно было спать хоть до вечера) Карачаров успел привыкнуть. Они его не волновали; мало того – он считал это естественным. Проанализировав причины, он понял, что иначе и быть не могло.
Люди, внезапно вырванные из жизни, лишенные связей с нею, но продолжающие биологически существовать, как правило, остаются на том уровне представлений, стремлений, интересов и ценностей, на каком находились в миг отторжения – если только новое бытие не заставляет их перестроить шкалу ценностей и систему взглядов и если они не прилагают немалых усилий, чтобы найти новое применение своей энергии и способностям.
Но в любом случае человек либо продолжает активно работать так, как он привык, – и тогда сохраняет себя, как полноценного деятеля, либо какое-то время вертится вхолостую, а затем, не имея обратной связи с результатами деятельности, затухает – и немедленно начинается деградация.
Большинству обитателей «Кита» помогли уцелеть дети; с ними возник целый мир новых чувств и задач, и о расслаблении не могло быть и речи.
Карачаров же, сознавая грозящую опасность и не находя более применения своим силам в жизни бывшего корабля, глубоко обиженный людьми, отказавшими ему в доверии на выборах, нашел выход в том, чтобы закапсулироваться в ту же физику, которой занимался всю сознательную жизнь.
Его попытка спасти маленькое человечество «Кита» не увенчалась успехом: расчет был правилен, но корабль оказался не в состоянии предоставить нужную мощность. Не повезло и с планетой: на сей раз тоже расчет был верен, но настолько безнадежен, что физик не решился обнародовать его и, чтобы не позволить людям совершенно потерять надежду, сократил сроки на несколько порядков; все бы ничего, но молодежь пересчитала и обвинила его в ошибке, хотя на самом деле ошибки не было, существовало лишь желание ободрить, заставить жить и надеяться.
Его усилия остались неоцененными, и Карачаров не мог не обидеться на это, а с другой стороны – не смог отказаться от желания все-таки сделать по-своему: доказать, что если кто-то и спасет людей, то лишь он один – никто другой.
Вывод напрашивался сам собой: надо было до конца разобраться в том, как именно произошло то, что с ними произошло, каков был механизм явления, и – самое главное – была ли затрата энергии на инверсию и на самом деле столь громадной, как следовало из его первых предположений. Если процесс и на самом деле был настолько энергоемким, то – откуда эта энергия взялась, если мощность корабля не позволяла оперировать такими величинами? А если тогда физик ошибся и процесс на деле был гораздо более экономичным – то каким же, черт бы его взял, он был?
Вот в эту проблематику он и влез и ни о чем другом больше не хотел думать. Разобраться оказалось сложнее, чем ему виделось вначале. Потребовалась такая математика, какой он раньше не пользовался; на одно освоение этого аппарата ушло больше двух лет. И лишь относительно недавно, после исследования многих возникавших у него вариантов, он, похоже, напал на верную тропинку – и не быстро, но все более уверенно продвигался теперь по ней.
Еще много программ предстояло рассчитать, чтобы приблизиться к конечному результату, но главный вывод физик мог бы, пожалуй, сформулировать уже и сейчас. Вывод был очень простым и совершенно неожиданным.
А заключался он в том, что происшедшее с «Китом» и его обитателями событие никак не могло произойти без человеческого вмешательства. Или, говоря иначе, – природа не обладала такими устройствами, какие – по выводам Карачарова – были необходимы для того, чтобы осуществить инверсию в столь небольшом масштабе. Теперь физику представлялось, что энергия при этом потребовалась достаточно скромная; природа в галактическом пространстве не оперирует такими величинами, подобная дозировка – явный след человека.
Конечно, все это надо было еще не раз проверить – и логически, и математически, и вообще – с точки зрения здравого смысла.
Но вместе с этими выводами неизбежно должна была возникнуть – и на самом деле возникла – масса вопросов. Люди? Какие люди? Кто-то из тех, кто и сейчас находится на борту «Кита»? Но кто и почему мог пожелать себе такой судьбы? А если кто-то и мог – для того, чтобы добиться такого результата, нужно было владеть и теорией, и ее прикладными возможностями так, как ими владели, в лучшем случае, полдюжины человек в Федерации. Кто-то со стороны? Зачем? Чтобы воспрепятствовать прибытию на Землю кого-то из пассажиров? Кого и почему? И почему – именно таким, прямо сказать, не самым простым способом? Не проще было бы, в таком случае, просто взорвать корабль? Чтобы разбираться в таких проблемах, надо было обладать опытом следственной работы; но этого как раз у Карачарова и не было.
Он, однако, считал, что логика остается логикой, к чему бы ее ни прилагать. И, что если по-настоящему сосредоточиться на решении этого вопроса, рано или поздно верное решение найдется.
Времени же, как полагал Карачаров, у него было в избытке.
Хотя тут он, возможно, оказался не вполне прав.
Так или иначе, заперев дверь и не испытывая ни малейшего желания уснуть, Карачаров уселся за стол и снова погрузился в размышления все на ту же тему.
* * *
К туристической палубе Истомин приближался, чувствуя, как настроение его становится все более и более смутным – именно таким словом определил писатель свое состояние.
В последний раз он был здесь – когда же? Да, наверное, больше двух лет тому назад; вот именно так. И, переселяясь в каюту суперкарго, с облегчением покинул эту палубу.
Тогда туристический салон был все еще загроможден массивными катушками на тяжелых постаментах, над которыми возвышался прозрачный купол; памятник рухнувшим надеждам – так называл его Истомин. И одновременно надгробный камень авторитету физика Карачарова, с той поры так и не воскресшему: похоже, чудес и здесь, в межгалактическом пространстве, не происходило.
…Кончилась наконец длинная кишка перехода. Овальная пластина, во время старта, финиша и сопространственных прыжков надежно изолировавшая туристический корпус от гораздо более уязвимой трубы, сейчас, как и десять лет тому назад, была распахнута и укреплена тормозом. Ничто не мешало войти.
Истомин помедлил мгновение, вздохнул и переступил высокий порог.
* * *
Планировка туристической палубы была иной, чем в первом классе. Что и неудивительно: раз отличаются цены на билеты, должны же в чем-то быть не похожими условия, которые компания предлагала пассажирам. Каюты, понятно, были поменьше. Меню синтезатора – здесь помещался один из его выходов – покороче, хотя и ненамного. И если в первом классе двери кают выходили прямо в салон, то в турмодуле система была коридорной, причем каюты располагались по одну сторону прохода, салон же, синтезатор и прочие службы – по другую, по левую – если идти из первого класса, как сейчас писатель.
Десять лет тому назад двери в салон были широко распахнуты – вернее, утоплены в стены и так закреплены. Сейчас створки оказались плотно закрытыми. Так что, проходя мимо них, Истомин с облегчением вздохнул: удалось лишний раз не увидеть памятник разочарованию. Кроме того, возникла надежда, что молодежь не стала экспериментировать с этим оборудованием, которое, как понимал Истомин, по-прежнему оставалось достаточно мощным, чтобы при вольном обращении с ним разнести на кусочки и корабль, и планету, да и вообще – проделать в пространстве неизвестно какую дырку, куда все провалится со страшной силой. Нет, дети, к счастью, продолжают, похоже, развлекаться своими будхическими – или как их там? – телами. И пусть занимаются на здоровье…
И однако же: если от этих их будхических или каких угодно других тел корабль начинает содрогаться – значит, пришло время навести порядок.
Такими вот размышлениями Истомин, переминаясь с ноги на ногу, все-таки довел себя до кондиции, необходимой для того, чтобы постучать в дверь какой-нибудь из кают, войти и потребовать – нет, конечно, не потребовать, но очень деликатно попросить объяснений. А кроме того, разумеется, осторожно выспросить: не возникало ли в этом корпусе чего-то, что вызвало бы у его обитателей чувство беспокойства, не случалось ли каких-то необъяснимых событий, и даже – не видел ли кто-нибудь из молодых каких-нибудь странных снов, в которых кораблю угрожала бы серьезная опасность.
Выбирая, в какое же из жилищ вторгнуться, писатель медленно шел по коридору, прислушиваясь. Любое действие должно сопровождаться звуками. По звуку часто можно определить и характер происходящего. А это важно, чтобы не попасть в крайне неловкое положение. У Истомина не было иллюзий насчет того – на какого рода действия он мог тут напороться, помимо всяких электронных или механических фокусов. Пресловутое яблочко с древа познания тут, полагал он, было давно уже разъедено.
Он был примерно посреди коридора, когда звук и в самом деле донесся до его слуха.
Снова тот самый звук: не звонкий, не глухой. Не металлический и не от удара пластика о пластик. Если бы он исходил из каюты, Истомин снова без колебаний определил бы его, как глубокий и продолжительный вздох. Очень глубокий и очень продолжительный. Люди так не вздыхают.
Но шел он явно не со стороны кают, а с противоположной. От синтезатора, или, может, даже из салона.
Или… Или, пожалуй, это могло быть звуком, сопровождающим кратковременное истечение воздуха из какого-то корабельного помещения в пустоту; но не сквозь небольшую щелку – тогда это был бы уже свист, – а через открывшуюся на секунду дверь, которая вела бы в пустоту.
И одновременно со звуком снова возникла – на какие-то полсекунды – уже знакомая вибрация, неприятная, как болезненный озноб. Что же они такое там делают? Совсем спятили?
Истомин на всякий случай остановился и глубоко вдохнул воздух. Нет, дышалось нормально. Тем не менее он, пользуясь старинным приемом, послюнил палец и поднял его, чтобы убедиться, что в коридоре нет никакого ветра, который означал бы пусть небольшую, но все же утечку воздуха.
Ветра никакого не было, писатель успокоился и двинулся дальше.
Дверь синтезатора была ближе, писатель подкрался и осторожно заглянул. Там было пусто, прибор отключен, как и полагалось на ночь.
Тогда он вернулся ко входу в салон и, преодолевая нежелание, нажал кнопку открывания.
Створки, однако, и не шелохнулись. Механизм то ли вышел из строя, то ли был принудительно отключен.
Истомин почувствовал, что беспокойство его вновь возникло и все усиливается. Первым, пришедшим в голову, оказалась нехорошая мысль о том, что может происходить среди ночи в салоне, раз уж туда и войти нельзя: для парочки хватило бы места и в каюте, а если уж понадобилось запираться в салоне, то там не двое предаются черт знает чему, а целая куча – хотя жили в турмодуле, кроме прочих, и совсем еще малолетки. Это же… Это…
Вероятно, только одним могли быть вызваны такие мысли: слишком надолго затянулся для него монашеский период – а всю предыдущую жизнь, в которой еще не было корабля и межгалактической пустоты, писатель не страдал аскетизмом. И психика все чаще уподоблялась стрелке компаса, указывающей, как ни крути, все на одно и то же. Он и сам это чувствовал, однако иногда – лишь задним числом, то есть далеко не сразу.
Так или иначе, в это мгновение он и не подумал заниматься самоанализом. Он просто испугался. Потому что на самом деле был достаточно старомодно воспитанным и законопослушным человеком, хотя со стороны, возможно, порою и выглядел совсем иным. И именно этот испуг скорее всего заставил Истомина забыть о его не очень приспособленном для визитов наряде (он ведь направился сюда лишь чтобы убедиться, что нигде не горит, не течет и не рушится, а вовсе не для переговоров), а заодно – и о принятых нормах приличия, которые следует соблюдать даже когда общаешься с малышами. Вот почему писатель, не потрудившись постучаться, толкнул плечом ближайшую каютную дверь – почти напротив закрытого входа в салон, – за которой звучала музыка – или, может, не совсем музыка, к какой Истомин привык, но, во всяком случае, нечто, обладавшее медленным ритмом и какой-то пусть монотонной, но несомненно мелодией.
Итак, он толкнул дверь каюты и вошел. Остановился на пороге. Устремленные на него взгляды множества глаз – почудилось ему – обожгли.
– Здравствуй, твое величество, – пробормотал он, стараясь, чтобы слова прозвучали доброжелательно-шутливо; в таком ключе он разговаривал с юнцами раньше – когда еще делил с ними туристический модуль.
– Здравствуй, – ответила Королева, ничуть, похоже, не удивившись. – Все не спишь?..
Истомин растерянно улыбнулся.