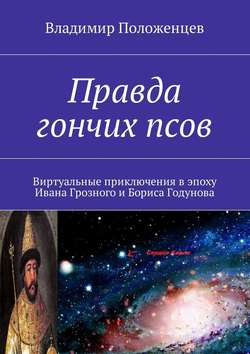Читать книгу Правда гончих псов. Виртуальные приключения в эпоху Ивана Грозного и Бориса Годунова - Владимир Положенцев - Страница 8
По следу Гончего пса
Хитрый план
ОглавлениеИван Васильевич лежал на широкой кровати в царских покоях. Темные занавесы на ней были плотно задернуты. Возле стоял митрополит Филипп, опираясь на тонкий, с костяными ручками посох. Он шептал молитву.
– Видать, отхожу, пресветлый, – произнес еле слышно государь.
– По грехом нашим и беды, – вздохнул Филипп. – За всё плата наступает. Облегчи душу, не томись. Туда, – указал он посохом на потолок, – кроме неё ничего не возьмешь. А она должна быть чиста, аки слеза младенца. Распусти опричнину, помилуй обреченных, покайся за невинноубиенных.
– Всё сделаю, Филлипушка, токма оставь меня покуда, сил нет.
– Оставлю, государь Иван Васильевич. Крепись.
Митрополит собрался уже уходить, на пороге задержался:
– Меня зело судьба великой духовной ценности беспокоит, что с ней будет, ежели… О либерии бабки твоей Софьи размышляю. Кому она без тебя надобна окажется? Растащат, немцам проклятым продадут, а то и вовсе спалят.
– На тебя уповаю, святейший. На твою волю. Поступай как знаешь. Вывези её из Кремля хотя бы в Коломенское, да спрячь покуда в одной из деревенек.
– Так и сделаю, государь.
Слегка поклонившись, митрополит наконец вышел.
Из двери, что вела в столовую палату, тут же появился Василий Губов. На его лице играла широкая улыбка.
– Ишь, поверил, «распусти опричнину», «покайся за невинноубиенных». То же мне, советчик.
– Ну, зубоскал! – резко отдернул занавеску царь. – Не тебе, холопу, над Его высокопреосвященством насмехаться!
– А что, – пожал плечами стряпчий, – я ничего. Просто славно получилось с твоей хворобой. Москва, сказывают, как улей гудит. Филипп-то недаром о твоей либерии печется, не иначе Риму вернуть вознамерился.
– Для чего? – сел на кровати государь.
– Э-э, думаю, митрополит далеко глядит. После твоей кончины… прости государь, кромешники разбегутся, аки зайцы, а войско воевать в Ливонии перестанет. Заявится сюда беспрепятственно Сигизмунд Август, слева направо креститься заставит. Тут-то и выйдет Филипп во всей красе – я, мол, первый с Римом задружился, мне и честь.
Иван подумал, потом рассмеялся:
– Это ты, кажись, хватил. Филипп за православную веру голову отдаст. Хотя… Либерию все ж пусть в Коломенское свезёт, поглядим что далее делать станет. Мне она всё одно покуда без надобности. Давно бы следовало этого попа в каком-нибудь монастыре запереть. Хоть бы в Богоявленском.
– Для чего же возвысил?
– Народ его почитает. К тому же лучше иметь ворога перед глазами, нежели за спиной. Всему свое время.
– На народ оглядываться, без порток останешься, а то и без башки, – ответил Губов и опустился на резной царский трон, который сам утром припер из приемной палаты. – Народ – что стадо баранов, куда погонят, туда и побежит. Когда он прав-то был? Только смуты устраивать. Потому господь и создал царей, чтобы этим стадом управлять.
Государь поднялся с ложа, подошел к столу, налил из шумерского бронзового кувшина с гнутым носиком вина.
– И ты ужо примеряешься?
Василий испуганно соскочил с трона.
– Что ты, государь, я ненароком.
– Ненароком хрен с пророком, – захохотал Иван Васильевич. – Ладно, к делу. Более ко мне никого не пускать, болен и всё. Машку тоже, устроила тут балаган.
После заутренней прибегала Мария Темрюковна. Царица была уже хмельна. То ли от радости, то ли в самом деле от горя, не поймешь. Ивана всего слезами и соплями измазала. Пришлось терпеть, не прогонишь же жезлом, когда в бессилии пребываешь. Стонала, убивалась возле его ног, молила за всё простить, а напоследок приложилась к шумерскому кувшинчику, икнула и исчезла.
– Веди Бориску, – приказал государь.
Из столовой палаты, которая соединялась лестницей с кухней, появился Годунов. Волосы взлохмачены, глаза горят, нос загнут как у ястреба. Ни испуга, ни почитания на лице. Правда, в дверях застыл, но не от робости, а от удивления – в царских покоях еще ни разу не доводилось бывать. Предполагал увидеть несказанное великолепие, а тут – тяжелые беленые своды, собранные в аляповатый лепной цветок, кровать, стол, да стул, каких кругом полно. Только резной трон говорил о том, что это царская опочивальня. И что самое удивительное – ни одной иконы.
Низко поклонился, приложив руку к груди.
– Как дядя? – подойдя к юноше вплотную спросил Иван Васильевич. – Оклемался после знакомства с Петькой Хомутовым?
– Медвежьим салом мажут, государь, – уклончиво ответил тот.
– Ты, гляжу, парень шустрый. Будешь мне верен, аки пес?
– До конца дней своих, государь.
– Ты дьяка-то угробил?
– Нет, государь.
– А кто?
– Не знаю.
– Вот и я не ведаю. Оттого и заболел. Видишь, еле на ногах стою?
Борис промолчал.
– Да токмо у меня ум ясный и рука тверда.
Царь схватил Годунова за черный чуб, притянул к себе. Оцарапал жесткой бородой.
– Пугать не буду, ты не пужливый. Станешь верно служить, опричником пожалую. А то и главным. Заместо Малюты хочешь? Он, сказывают, супротив меня измену замыслил, ядом хотел отравить. Через повара мого Маляву.
– Как же это возможно, государь?
– А ты не перебивай, когда царь говорит. Ах, какие глаза…
Отпихнул Бориса, сел на стул.
– Об том, что я в здравии знает только Васька, Малява и теперь ты. Уразумел для чего?
– Нет, государь, – честно признался Годунов.
– Чтоб убить ядовитую змею, нужно на время затаиться. А вот когда она подползет ближе и раздавить сапогом. В коробке, которую должен был передать Маляве князь Старицкий от Малюты, яда не было.
– Во-от, как… Григорий Лукьянович хотел очернить князя в твоих глазах, государь, и тем больше возвыситься, – быстро догадался Борис. – Для того и дьяка к тебе послал. Тимофей Никитин должен был опередить князя. Раз коробица у тебя, значит, твой брат не передал её Маляве. Но ты вдруг смертельно заболел и теперь все в раздрае – почему, что произошло? Будут думать, что тебя все одно кто-то отравил, начнут выяснять отношения. Настоящий змий обязательно выползет на свет, государь.
Иван Васильевич даже цокнул несколько раз языком. Уже понял, что мальчонка умен, но такой проворной сметливости от него никак не ожидал. Встал, опять подошел к Борису. Внимательно его оглядел.
– Ну, да, – наконец произнес он, – а Тимошка Малюте всю игру попутал, взял да и напоролся на кинжал.
– Выходит так.
– Вот ты и распутаешь этот клубок.
– Я?! – воскликнул Борис, забыв что находится у царя.
– Завтра поедешь с Губовым в Москву. Он тебе всё расскажет. Васька, неси схиму, в подвал Троицкий молиться пойду.
– Ты же при смерти!
– Ах, да! – стукнул себя по лбу Иван Васильевич. – Тогда пошли оба вон, надоели.
Стража княжеского дома оказалась неприветлива и чрезмерна осторожна. Видимо, хозяин дал соответствующие наставления.
– Чего надобно, полуношники? Проезжайте, покуда живы.
– Ты с кем так смел, басалай! – вертясь на сноровистом коне, крикнул в полутьму Бакуня. – Не видишь, кого спроваживаешь?
– А мне хоть ты сам Малюта. Не велено. Щас из пещали-то пульну, потом погляжу кто ты таков. Ха-ха.
Григорий Лукьянович слез с коня, подошел к стрельцу. Подъехал ближе и Бакуня. Тот наконец разглядел поздних странников. Челюсть так и отвисла.
– Что, в самом деле, и меня прогонишь? – сощурился Скуратов.
Стрелец тяжело сглотнул, выпучил глаза:
– Владимир Андреевич отдыхает. Утомился с дороги.
Другой страж уже спешно открывал ворота. Малюта взял под уздцы коня, неспешно пошел во двор. Бакуня, сплюнув под ноги стрельцу, последовал за хозяином.
Старицкий будто ждал гостей. Вышел на крыльцо. Дом его был построен в немецком стиле – почти ровный, как коробка, с темными продольными и поперечными перекладинами на белой стене, высокой крышей, без всяких резных и расписных излишеств.
– Как здоров, Григорий Лукьянович, не хвораешь ли? – весело спросил князь.
– Токмо твоими молитвами и пробиваюсь.
– Стараюсь, боярин, весь лоб за тебя ужо перед образами измочалил.
Чего это он так веселится? – подумал Малюта. – Неужто и вправду порошок в коробице подменил, отравы туда насыпал? Но как узнал, что там был не яд? На язык что ли попробовал? Или холопу скормил? С него станется. Но тогда меченная зернь у него в руках. Будет меня ломать. Поглядим.
Расположились внизу, в светлице. Впрочем, и она полностью напоминала польскую или литовскую комнату. Вместо печи – камин, на стенах гобелены с рыцарскими сражениями и охотой на львов. Малюта вспомнил свой тайный подземный дом на волжском острове. У него богаче. Хотя, князь-то здесь уже и не живет, так, бывает набегами, когда Иван позволяет в Москве бывать. Был у Старицкого дом и в Зарядье, но при последней опале царь его отобрал, устроил там Разбойный приказ. Теперь Владимир Андреевич мог обретаться только в Воробьёво, где жили его родственники.
На этот раз Малюта не прогонял Бакуню, велел сидеть рядом. Это удивило князя, но возражать он не стал. В конце концов Бакуня, которого он хорошо знал, не черный холоп, а сын дворянина Ивана Плетнёва – Илья. Хотя все давно уже зовут тиуна по прозвищу Бакуня – или балабол. В насмешку, видать. Парень и со своими-то просто так и рта не раскроет, а уж с чужими…
– Чем обязан? – учтиво спросил князь, давая знак человеку поставить на стол кувшины с вином и уйти.
– А то не знаешь, – ухмыльнулся Малюта. – Царя-то, говорят, уже Филипп исповедал.
– Да ну?! – удивился то ли понарошку, то ли взаправду князь. – Ай, ай. Беда.
– Ты, Владимир Андреевич, заканчивай свои шутки. Я ить тоже шутковать умею. Сказывай прямо – зелье передавал Маляве?
Князь покрутил головой, будто она у него внезапно разболелась, размял пальцами шею. Его шейные позвонки хрустнули.
– Передал кому надо, – уклончиво ответил Владимир Андреевич.
– Отчего же тогда государь собирается с архангелами беседовать? В коробице-то мука да порох были.
– Знаю, Григорий Лукьянович.
– Знаешь?!
– Твой замысел я сходу раскусил. Не глупее тебя. Подставить ты меня решил, а сам на лихом белом коне оказаться.
Малюта отчаянно дернул бородой, стал её немилосердно чесать.
– Ты, видать, и дьяка Никитина к братцу послал, чтобы он его о моем кознодействе упредил, – продолжил князь. – Так ить? Раз Бакуня тут, знамо, он Тимошке от тебя весточку сию и передал. Токмо я проворнее вас оказался. Про зелье я сразу Ивану рассказал. И на тебя, само собой, донес. Кстати, повар честным оказался. Васька Губов пытался подсунуть ему зелье для государя, вроде как лечебное, от римских целителей. Да тот его себе в пасть засунул. Ха-ха. Царь ему за верность 70 рублей пожаловал, причем серебряными новгородками, и шубу с плеча. Сам-то в схиме ходит. Ходил.
– Та-ак, – протянул Малюта. – Хитер, князь, недооценил тебя. Отчего же Иван помирает? И почему тогда ты здесь прохлаждаешься, а не у его смертного одра?
– Велено никого не подпускать и близко. Слыхал, даже Темрюковну не привечает. Не сегодня-завтра преставится.
– Откуда вестимо?
– Васька тут, в Разбойном приказе с кромешниками царскими шороху наводит. Пытается дознаться с чем Никитка к царю помчался. Тело его сюда приволокли. Пусть постарается. Для нас с тобой то не секрет. Так?
– Ну, – нахмурился Малюта.
– Для нас с тобой загадка кто и зачем Тимошку убил. Али и здесь твой хитрый ход?
– Думай что говоришь, князь, стал бы я дьяка изничтожать, коли сам его к царю спроворил.
– Это верно, – вздохнул Старицкий. – Что делать-то станешь, Григорий Лукьянович? Будешь ждать, покуда братец отойдет? Али все же в Александров наведаешься?
– Разберусь.
– Гляди, у царя хватит еще сил тебя на дыбу отправить. Думаешь, он поверит в твои сказки?
– Не до сказок ему теперь, коли Филипп уже вокруг него вороном вьется. А ежели царь представление устроил? Может, и не помирает вовсе. На все способный. Ты-то его еще в здравии застал?
– В полном. Велел мне покуда здесь находиться, не уезжать в Романово.
– Чудно. Ежели хотел тебя со мной лицом к лицу схлестнуть, зачем в слободе не оставил?
– Не любит он меня, вот и убрал до поры с глаз долой.
«Да-а, любить тебя не за что, – подумал Малюта. – Хитер зверь, просто так в ловушку не загонишь. Ну ничего, поглядим кто кого».
– Что боярская дума говорит? – спросил он.
– Знаешь ведь – до смерти правителя не потребно ничего обсуждать. Земство, сам сказывал, на моей стороне.
– Так оно аки ветер. Сегодня так, завтра эдак. К Сигизмунду надобно.
– Что?
– Что! Что! – вдруг вспылил Скуратов. – Как бы поздно не было! Нужен ты земским, как лягушке перья. Это я тебе тогда так, на уши соломы наплел. Помрет Иван, такой раздрай начнется… Одна надежда на короля. Хорошо бы он дал теперь Андрюшке Курбскому достойное войско и тот бы сидел на изготовке. Когда царь помрет, обойдет Полоцк и быстрым шагом сюда. Покуда многие наши стрельцы в Ливонии да на юге. Войско что я привел из-под Полоцка – так, разве для видимости.
– Не пойму тебя, Гриша.
Князь встал, расправил плечи. – Я, по-твоему, самоубийца? Опять же ты сам говорил, что ляхи меня первым на кол посадят.
– Пошутил я. Зачем Сигизмунду на троне Андрюшка? Он ведь знает, что народ его предателем считает. Ну посидит месяц другой, а опосля его на пики сбросят. Нет. Королю надобно, чтобы народ русский смирным был, а правитель в дружбе с ним. Через такого он свою веру постарается насадить, постепенно. А то поддержка Рима и большие деньги. Чуешь? Ты Сигизмунду нужен, князь. Ты!
Владимир Андреевич опять хрустнул шейными позвонками, задумался. Потом налил себе полный кубок вина, без продыху осушил. Закусывать холодной телятиной не стал, вытер рот рукавом.
– Верить тебе, Малюта, что скорпиону.
– А ты не верь, дело твое. Только здраво рассуди прав я или нет. То-то. Надобно письмо Сигизмунду сочинять. Бакуня его Андрюшке передаст.
– Чего же писать?
– Я потом скажу.
– А ежели царь комедию ломает? Возьмет завтрева и на ноги встанет. Что тогда?
– Это мы выясним.
– Как?
– Над углями еще никто не молчал. Вот и Васька Губов заговорит.
На ночь Малюта с Бакуней в Воробьёве не остались. Помчались в загородный дом Скуратова, что находился за Белым городом. Там боярин велел своим кромешникам немедля разыскать царского стряпчего Губова и тайно доставить его к нему. Бакуня пришпорил коня и вместе с дюжими молодцами умчался в ночь.
Иван проснулся ни свет ни заря. Бока ломило – не привык спать на этой широкой, мягкой кровати. В слободе обычно простым топчаном с медвежьей ергачиной перебивался. Выглянул из-за плотной шторины. Прислушался. Никого. Опустил босые ноги на пол, отдернул. Холодно. Опять холопы палаты как следует не протопили.
Взглянул на ночной глиняный горшок. Жуть как хотелось воспользоваться, но нельзя. Узнают, что справлял в него нужду, всё поймут. А ить он при смерти. Неподвижен. Подошел к двери, которая вела в столовую палату. Лестница в нужник находилась за ней. Велено было наверху никому не находиться, чтобы не беспокоить царя. Дозволялось только немому татарчонку Аги, что должен был давать больному воду и куриного бульона. Собрался уже выскочить из покоев, но внизу раздались голоса. Они становились всё громче. С охранными кромешниками кто-то бранился. «С кем говоришь, холоп!» – донеслось отчетливо. «Да, ить с нас головы снимут!» «Кто? Гляди, чтоб я с тебя первым и не снял».
Топот на лестнице, что ведет со двора прямо в покои.
Выругавшись, государь нырнул в постель, задвинул занавески. В дверь ввалились не постучав, громко сопя. Подошли к кровати. Оттянули тряпицу.
– Государь…
По голосу Иван сразу узнал думного боярина Юрия Головина.
– Даже не шевелится, нос ишь как заострился, – сказал другой.
Сомнений не было, это – Илья Плетнев из бояр земских. Оба в силе, на Соборе их голоса веские.
Слетелись на умирающего льва, – подумал царь. – Шкуру заранее делить. Ну, ладно, послушаем.
Ему стоило большого труда не моргнуть и не пошевелиться.
– Кажись, совсем плох, – прошептал Головин.
– Что делать-то станем? Может, пора Собор созывать?
– Митрополит не позволит, пока душа с телом не рассталась. Но готовиться надобно. Сомнений нет.
– Кого кричать-то будем, Ивана?
– Квелый он, безликий, – ответил думный боярин.
– То-то и лучше. На кой нам Рига ливонская? Пора уж заканчивать там. Жили без балтийских податей и слава богу. Того и гляди Литва с Польшей объединятся и тогда нам крышка, до Москвы дойдут. Сигизмунд шутить не будет. А уж сразу супротив немцев, финов, шведов и Крымского хана нам точно не устоять.
– Не устоять, Илья Матвеевич, – вздохнул Головин. – И от опричнины сплошное разорение. У меня ить сколько отобрали, не сосчитать. Запомнится нам Иваново царство.
– Ох, запомнится, друже.
Плетнев протянул руку к лицу государя, помахал перед ним. Поднес ладонь к губам.
– Чуешь что-нибудь? – спросил Головин.
– Не пойму. Кажись тихо.
Иван Васильевич затаил дыхание, напрягся.
– Пощупай под скулой, – посоветовал Головин. – Бьется? А-а, дайкось я.
Он отстранил Плетнева и сам засунул два пальца под подбородок царю.
В этот момент левый глаз «больного» резко отворился. Он крепко перехватил руку Головина, сжал, вывернул.
Оба боярина отскочили прочь. Запутавшись в длинных полах кафтанов, свалились на спины, смешно задрав ноги.
Царь соскочил с постели, схватил, выроненный Плетневым посох.
– Сигизмунд, говорите, шутить не любит? А я шибко люблю.
Бил обоих с остервенением, роняя густую слюну, пока резной, с золотым обкладом посох, не обломился. Затем, отшвырнув палку, схватил бояр за воротники.
– То, что вы здесь сказывали, вам зачтется. А пока… Ежели кто узнает, что я в здравии, непотребники, лично каждому кишки вырву через поганые пасти. Уразумели?
Бояре в ужасе кивали головами, мычали непонятное.
– Ух, лободырники! – погрозил напоследок кулаком царь и галопом понесся в нужник.
Стрельцов, что пустили к царю бояр, выпороли на конюшне. Их сотнику Лямову Иван Васильевич лично намял физиономию. Тот только таращил глаза и беспрестанно икал. То ли от обиды (он ведь герой Казани и Астрахани), то ли от удивления, что находящийся при смерти государь, столь проворен и силен.
С того момента кому-либо заходить даже в нижние этажи палаты запрещалось. Ну, кроме повара Малявы, его двух сподручных холопов и татарчонка Аги. Горыню, оказавшимся преданным человеком, посвятили в то, что болезнь царя не настоящая. Так надо. И ежели кто спросит, говорить, что государь очень плох и уже никого не узнает. Он помогал Ваське Губову и Бориске Годунову собираться в Москву, везти туда тело думного дьяка Никитина. Готовил им харчи, промасливал тряпки деревянным маслом, в которые завернули Тимошку. Для чего повезли, не спрашивал. Хотя было очень забавно узнать. Ведь не было у Никитина в Москве никого, жил уже пару лет бобылем, после того как в проруби кануло все его семейство. Поехали весной на санях в Заяузье, да и провалились. Одни шапки выловили. Закопали бы дьяка на местном погосте и ладно.
Однако велено было устроить Никитину отпевание ни где-нибудь, а в Успенском соборе Кремля, а после похоронить со всеми почестями в Чудовом монастыре. Не каждый удостаивался такой чести упокоиться в стенах обители, возведенной в память о чудесном исцелении от слепоты Тайдулы, матери хана Золотой орды Джанибека. Прозрела она благодаря молитвам митрополита Алексия. Конечно, сему странному погребению пытался воспротивиться Филипп, но царь (когда еще был в «здравии») так грозно хлопнул посохом у ног святейшего, выругался так непотребно, что тот отступил. «Делай, государь, что считаешь нужным. Токмо думный дьяк Никитин и Новодевичьего погоста не заслужил». « А ты не лезь, Федор Степанович, куда тебя не просят, ежели не желаешь сам в какой-нибудь монастырь ужо вскоре отправиться».
Расчет был на то, что пышные похоронные церемонии сильно озадачат злодеев. Выбьют из колеи. Ежели это и в самом деле козни Малюты, то он предпримет ряд необдуманных шагов и с головой себя выдаст. Так же поступят и остальные воры, когда узнают, что Никитку хоронят почти как святого. Значит царь ему шибко обязан, дьяк оказал ему неоценимую услугу. Но какую? Предупредил о заговоре и об отраве? Но тогда почему царь занемог, а Тимошку убили?
Никому более не дозволялось беспокоить царя. Однако Ивана Васильевича очень огорчало, что такой попытки даже не сделал его сын Иван. Царь тайком припадал к узким окнам в надежде увидеть его подходящим к палатам, но тщетно. «Вот ить, шельмец. Мал, конечно, всего двенадцать годков, плохо смыслит. Но и Бориске немного, а вон какой прыткий. Даром, что у Ваньки покровитель святой Лествичник. Не в него добродетелью. Убить мало. Так бы посохом по лбу и дал!»
Порадовало царя другое. Неизвестно как в палаты под вечер пробрался, примчавшийся из Ливонии Федька Басманов. От него еще пахло порохом и стрелецкими обозами. Влетел в палаты вихрем, бросился к кровати, отдернул занавеску. А никого там не обнаружив, застыл столбом.
– Что, чернявый, потерял своего благодетеля? – захихикал Иван Васильевич, сидя на троне за колонной.
– Государь! – всплеснул по-бабьи руками Федор. – Как я рад, что ты в здравии и лепости!
– Какая уж тут лепость, когда воры кругом, извести меня, царя вся Руси, потомка Рюрика вознамерились.
– Кто? Где? – закрутился как ужаленный Басманов, словно «воры» попрятались здесь же по углам. – Дай мне их, растерзаю! Отца родного за тебя не пощажу.
Государь ухмыльнулся, встал с трона, обнял Федора за плечи:
– Отца своего предашь, предашь и царя.
Опричник сглотнул, не зная как реагировать на эти слова. Опустил голову на грудь царя.
– Боялся, что уж живым не застану. День и ночь коней загонял. Как весть получил, сразу сюда.
Государю теперь было не до нежностей, отстранил Басманова, снова уселся на трон.
– Потом. Что там с Ригой?
– Стоим, государь, в 50 верстах. Ежели бы не шведы, давно бы уж взяли. Они по ту сторону, на взморье. Посольство к тебе литовское собирается. Хотят Ливонию-то поделить между ляхами, шведами и нами.
– Что об том думаешь?
– Нам крохи предложат. Не потребно идти на сговор, Сигизмунд с королем Эриком все одно обманут. Меж собой дерутся, а главный враг – мы. Вышибли бы и шведов из Эстляндии, взяли бы Ревель, да сил маловато. Так что надобно делать так, как ты указал Земскому собору – воевать до полной победы.
– Да куда мне, убогому, земству указывать. Ты, Федор, со сродственниками постарался, уговорил.
Басманов зарделся, потупил глаза. Он очень любил, когда его Иван хвалил. А еще когда гладил по голове своими крепкими, длинными пальцами, перебирал ими его черные кудри. Теперь же понимал, что царь не намерен предаваться нежностям. А потому продолжил по-деловому:
– Главное, чтоб хан Девлет Герай опять в спину не ударил. В прошлом году от Болхова-то отступил, а теперь не знамо что учинит. Может, снова на Рязань пойдет, а то стразу и на Москву. Важно, что ты цел.
Царь помолчал, выпил вина.
– Ты, Федька, в слободе останешься. Пока я не вернусь. Следи, чтоб в эти палаты ни одна душа, кроме Малявы не наведывалась. Ни Филипп, ни Темрюковна, никто. Костьми ложись, но не пущай. Все должны быть уверены, что я здесь и тихо отхожу.
Басманов вскинул брови:
– Куда же ты собрался, государь? Возьми с собой.
– Верю тебе, но не надеюсь. Токмо на себя надеюсь. Никто кроме меня жало аспидное не вырвет. В Москву утром в монашеском наряде пойду. Один. Там измену искать стану. И это всё! Как сюда сейчас незаметно пролез, чуть свет меня и выведешь. Маляву я предупрежу. Принеси мне схиму странствующую, она в келье храма Богородицы. Позови сюда сотника Лямова, скажу ему, что в страже теперь ты главный.
– А он-то не проговорится?
– Я ему уже однажды объяснил – ежели пасть откроет, всё его семейство в кипятке сварю. Да ты еще попугай.
– Узнают тебя, государь, и в обличье чернеца.
– Бороду сбрею.
– Как же, инок и без бороды?
– Кому какое дело! Все, уймись, делай что велено.
Ранним утром из потайной калитки Александрова кремля вышел высокий, согбенный монах с надвинутым на лицо черным капюшоном. Он опирался на простую деревянную палку, за спиной его была небольшая дерюжная котомка. Монах быстро обошел стороной село и через овраг, опушкой почти опавшего леса, вышел на дорогу. Здесь он сбавил шаг и уже не торопясь направился в сторону Москвы.