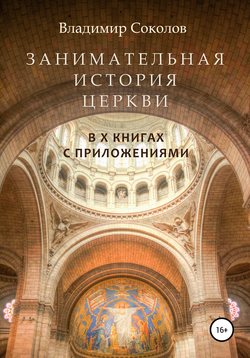Читать книгу Занимательная история Церкви - Владимир Соколов - Страница 8
Книга I. Как и почему возникла Церковь
Глава первая. Новая коллегия
Язычники
ОглавлениеВ первые годы почитатели Иисуса еще не назывались христианами, именуя себя «призванными», «верными» или «святыми». В Иерусалиме ученики Христа продолжали оставаться иудеями, своими среди своих, и для их особого обозначения не возникало надобности. Но после того, как в сирийской Антиохии – третьем по величине городе в империи, населенном в основном греками, – образовалась крупная община из язычников, потребовалось новое слово для определения секты, которую до сих пор считали чисто иудейской. Тогда и возникло понятие «христиан», то есть последователей Христа.
Ранняя Церковь не ставила перед собой задачи обращать «необрезанных» язычников. Если это и происходило, то стихийно и само собой, как описано в истории с апостолом Филиппом и евнухом: идя однажды по дороге в Газу, Филипп разговорился с ехавшим рядом эфиопом, рассказал ему об Иисусе и крестил его у ближайшего ручья. Это был импульсивный и единичный поступок, не имевший принципиального значения и не отменявший того факта, что вечное спасение готовилось только для евреев.
Появление обращенных из язычников привело христиан в замешательство. Прежде всего, было непонятно, нужно ли их вообще принимать в общину? Разве Иисус пришел спасать не своих, как Он сказал хананеянке: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева» (Мф. 15, 24). После бегства из Иерусалима христиане «никому не проповедовали слова, кроме иудеев» («Деяния апостолов»). Когда Корнилий, римский центурион, пожелал принять крещение, апостол Петр заявил, что ему, иудею, возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Сам Петр пришел к Корнилию только потому, что так повелел Бог: в мистическом видении к апостолу явился ангел и сказал, что ни один народ нельзя почитать чистым или нечистым. Но иерусалимские «святые», узнав о крещении Корнилия, стали упрекать уже самого Петра – не за то, что он крестил язычника, а за то, что «ходил к людям необрезанным и ел с ними». Только непосредственное откровение Святого Духа, данное Петру, убедило христиан принять язычников в Церковь, вопреки мнению и желанию большинства.
Когда этот вопрос был решен в пользу язычников, сразу возник новый: как быть с Законом и его требованиям, обращенными к каждому иудею? Иудаизм существовал веками, его заповеди в глазах евреев были священны, поскольку исходили от Самого Господа. Если христианство действительно продолжало веру отцов, то должно было следовать ее обрядам и традициям. Ключевым моментом в этом споре стало обрезание. Многие евреи-христиане прямо утверждали, что не обрезавшиеся не спасутся. Отказ от обрезания означал открытый и сознательный разрыв с иудаизмом, то же самое, что для христиан стал бы отказ от совместного причастия. В Антиохии вопрос об обрезании встал так резко, что апостолы Павел и Варнава, возглавлявшие общину в этом городе, отправились в Иерусалим, чтобы попытаться придти к общему решению и определить, как поступать с обращенными из язычников. С собой они взяли ученика Тита, христианина «нового типа» – крещеного язычника, не подвергнутого обрезанию.
Первое, что антиохийцы услышали в Иерусалиме, было требование обрезать Тита. Павел и Варнава ответили отказом и обратились к авторитету иерусалимских апостолов, которые созвали для решения этого вопроса специальное совещание – собор, позже названный «апостольским». Он проходил примерно в 49–51 годах в присутствии Петра, Иоанна, Павла и других апостолов и под председательством Иакова, двоюродного брата Иисуса. Этот первый в истории церковный собор постановил, что язычники могут спастись так же, как и иудеи, и никакого обрезания для крещеных язычников не требуется. Итогом собора стал краткий «моральный кодекс» христиан, в одной фразе сформулировавший то, что являлось обязательным для членов Церкви: «Угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего необходимого: воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите». В этой программе-минимум присутствовали два пункта, относившихся к практике иудаизма: не употреблять мяса, предназначенного в жертву идолам, и не есть удавленину (то есть убитых животных, из которых не выпущена кровь). Запрет идоложертвенного мяса означал отказ от язычества, а вопрос об удавленине имел практическое значение для христиан из язычников и иудеев, которые собирались на совместные трапезы. Из-за разногласий в этом вопросе еще много лет спустя во многих общинах христиане-иудеи и христиане-язычники питались отдельно.
Однако дальше произошло то, что потом много раз происходило в церковной истории: постановления собора не соблюдались. Собор и его решения были одно, а практика и жизнь – другое. Давление традиций и консервативного благочестия оказалось сильнее рекомендаций и мнений апостолов, которые и сами не раз подчинялись ему, отступая от собственных решений. Столпом иудео-христианства в Иерусалиме был Иаков, «брат Господень», прозванный за благочестие Праведным. Он вел аскетическую жизнь и был назореем, то есть «не пил ни вина, ни пива, не вкушал мясной пищи; бритва не касалась его головы, он не умащался елеем и не ходил в баню». Иерусалимские иудеи почитали Иакова не меньше христиан, постоянно видя его в Храме, где он проводил долгие часы в молитвах. Говорили, что его колени от постоянных молитв стали мозолистыми, как у верблюда.
Имея такого сторонника, иудео-христиане могли не опасаться недостатка в авторитетах. Общим настроениям поддался даже апостол Петр. Несмотря на откровение «ничего не почитать нечистым», во время поездки в Антиохию он отказался есть за одним столом с христианами-язычниками. Возмущенный этим поступком Павел раскритиковал Петра за то, что тот испугался мнения иудеев и стал скрывать свое общение с язычниками, подав пример общему «лицемерию». Но вскоре к сторонникам традиций присоединился и верный друг и соратник Павла – Варнава. Наступил момент, когда Павел остался единственным, кто пытался вести борьбу с иудейскими обрядами. Тем не менее, он упрямо стоял на своем, выступая против обрезания и соблюдения ветхозаветного закона. Спасаются не обрезанием, говорил апостол: после Христа это уже безразлично, а значит, и не нужно, – спасаются верой и любовью. Для Бога больше нет «ни иудея, ни эллина, ни варвара, ни скифа, ни раба, ни свободного, ни мужчин, ни женщин».
Оставшись без единомышленников в Антиохии, Павел покинул город и отправился в свои миссионерские путешествия, которые глубоко изменили христианство и придали ему новое содержание и форму.