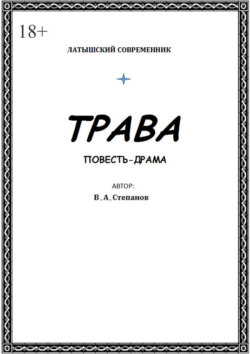Читать книгу Трава - Владимир Степанов - Страница 3
II
ОглавлениеБудто в больном, кошмарном полусне, в забытьи прошли эти страшные два часа скульптурной пытки для Эльбруса Эверестовича. Он открыл правый глаз, когда ощутил, что Шаман покинул сарай. Подбитый левый уже заплыл и ничего не видел, и с левой стороны обзор был закрыт. Свежий воздух обдувал его взмокшую от нестерпимой, тупой боли голову и босые ноги. Заборный штакетник крепко сдавливал тонкую шею, а собственные ноги, которые свисали задранные до невозможности и перекинутые через дубину помогали этой же дубине давить на неё. Гималайский не понимал, что сделал с ним этот зверюга, выросший на сопках Дальнего Востока. Сильно болела голова, шея, бёдра, плечи и руки, скрюченные за спину. Щека раздулась, левый глаз совсем не видел, а кляп, плотно забитый в рот, вытолкнуть языком было невозможно.
Его подбородок лежал на загаженной, перевёрнутой вверх дном миске, из которой пили воду куры. Он увидел чуть ли не у самого носа правую, босую, собственную ступню, а между пальцами, забитыми курячьим дерьмом торчали длинные гусиные перья.
«Он меня перенёс к самому порогу, а я не помню, значит в отключке был. похоже он так навертел меня на дубину, что можно бревном катиться, только как? Палка длинная наверно, концы в стены упёрлись. Башка на пороге, а за порогом, вот она – свобода. Китаец! Только китаец мог научить, как связать одной палкой. Сам никогда не додумался бы с его то башкой», – анализировал пришедший в сознание и сплющенный до некуда, заблудший в сарай Гималайский. – «Куда он пошёл сейчас, чего ещё задумал? С таким скрюченным скелетом долго не протяну, ну ещё часа два-три и что? Вот так просто загибаться в этом сарае с курями, пока петух глаз не выклевал? Нет! Надо что-то делать, надо немедля думать, как выкатываться отсюда», – мысли о спасении накатывали как волны, одна на другую.
Неожиданно для себя, перед Гималайским встал образ отца и матери. Они стояли совсем рядом, и он слышал их голос: «Крепись сынок, ты выдержишь испытание, ты умеешь терпеть, ты маленький, но ты сильный!»
Образ стоящих родителей стал медленно растворяться и вскоре исчез, а он, не моргая, смотрел правым глазом на зелёную траву за порогом и думал о них с большой благодарностью. Он благодарил их за то, что они произвели его на свет белый вот такого, такого, которого связали одной палкой, и он в немыслимой позе держится на ней с неповреждёнными руками, ногами, головой и шеей. Да, ну не вышел он ни ростом, ни весом. Природа отмерила ему всего лишь метр шестьдесят в росте и навешала пятьдесят семь килограмм плоти с тонкими костями. И, как бы извиняясь за свою нещедрость перед рабом божьим, взамен дала гибкость ума и пластику тела, прозорливость, склонность к авантюре и смелость в риске на удачу. Он любил отца и мать всегда, у него никогда в жизни ив мысли не было когда-нибудь обидеться на них. Почему он получился вот такой…? А его это вполне устраивало, он всегда верил, что сможет разбежаться и, с попутным порывом ветра улететь в мир приключений, где поджидает тебя опасность и где много риска. И в эти минуты, намотанный на палке, он был им благодарен, будто они наперёд уже знали, в какие приключения попадёт их единственный сынок.
Шаман ушёл в сторону курятника и долго не возвращался. Дверь в сарае была в той стороне тоже открыта, и сквозняк протягивал гостя со всех сторон, окончательно приводя его в чувство.
Опять нахлынули воспоминания. Вспомнил отца, который несколько лет подряд каждое лето брал его в горы. За эти несколько летних сезонов он постиг хорошую школу выживания наедине с природой, где ковался и закалялся, как в кузне, его характер. Он благодарил отца, который учил его терпению, учил разводить огонь в ненастье, ставить палатку, варить в котелке, а ночью смотреть на звёзды и познавать Вселенную, малой частичкой которой являлся он! Школа гор и то, что умел и смог дать ему отец, очень пригодились ему, когда настало время входить в большую, полную противоречий, бурлящую, взрослую жизнь.
За спиной связанного гостя послышались шаги – это возвращался Шаман с большим пучком перьев, которых не хватило на скульптуру. За свои прожитые годы, Шаман никогда не испытывал творческого желания подержать карандаш или обмакнуть кисточку в акварель, или пластилин помять в руках. А сейчас он стоял за спиной Гималайского, задрав вверх дикие, пронизывающие крышу сарая, глаза. Эти звериные глаза спрашивали кого-то там наверху: «Неужто это я? Неужто на такое…, с моими-то руками, и я сотворил?». – Шаман не то, что был в зачарованном восторге от самого себя, его распирала ещё и гордость за завершённую до полнейшей неузнаваемости фигуру, которая подсыхала на сквозняке у порога мастерской. Как он в эту минуту жалел, что он не в камере, братва бы его заценила громкими аплодисментами.
Он подкатил пень к задней части почти готового изваяния, сел на – него и стал размазывать что-то вонючее по всей спине, одновременно, непрерывно и долго что-то втыкая в фуфайку. Затаившись и почти не дыша, лежащая фигура, не проронив ни слова, увидела, как перед носом за порог упала смятая пустая пачка от папирос. С каждой затяжкой вдохновение, посетившее Шамана, теряло силу и ускоренным темпом покидало скульптора. Он устал от своего творчества!
– Шабаш! – поднимаясь, скульптор поправил шапку и направился к воротам забора.
Глядя на валяющуюся пачку от папирос «Север», Эверест понял: «У Шамана кончилось курево! Долго без табака не усидит!» – он хорошо изучил привычки этого пахана. Без табака уже через полчаса этот дикарь приходил в ярость.
Шаман отворил обе створки широких ворот, чтобы все, кто проходил мимо, могли видеть, какое чудо в перьях живёт у него в сарае. Вернувшись, схватил берёзовое полено и обтесал топором так, чтобы получился кол и снова вышел. Прошло минут пять. Между открытыми воротами и сараем Шаман появился с шумным кобелём, непородистым, но очень крупным. Грубо матерясь на весь двор, он тащил его что было силы, резко дергая за цепь. Сюсюбель, так звали кобеля, скользил по траве упираясь всеми четырьмя лапами и громко скулил.
Хозяина он откровенно боялся, хотя и был первым заводилой среди псовых на деревне. От Шамана поселковые собаки шарахались в стороны как от прокажённого, поджав хвосты. При встрече с ними, он бил их в «бубен», как и встречавшихся на пути якутов, коим сам же и являлся, только с примесью русской крови. Он очень не любил якутов, с которыми вырос в детском доме, и никто не знал причину этой враждебной ненависти к ним и к собакам. «Что взять с дикаря!» – говорили в посёлке.
Дотащив кобеля до выбранного им места, он вставил обтёсанный кол в широкое кольцо на конце длинной цепи и обухом топора глубоко вогнал его в землю. Кобель обязан был охранять невиданное доселе, сотворённое Шаманово чудо и никого не пускать в сарай.
– Ну, дык што, Недовесок аптечный? Никака баба, дажа и сблизи, харю твою нипочём не узнает, зуб даю, да всю пасть с зубами! Травник микстурный, зельеварец херов, килограммами недовешанный. Отнесть бы тебя в тайгу, на сопку в глушь подале. Волки с медведями говном и воем изойдут, а близко не подойдут, зуб даю, с любым спорить стану! Да не протянешь долго токи. Ща я тебя в проходе выставлять покрасивше стану, только симитрию исделаю, чтоба конец палки за порог не выскочил. Чгук-Чан-Чайник-Гук, иль как там, погоняло твого американца в перьях, в сказках нам лепил которого. Он, чой-то мне запал, бедовый браток этот. Но ты пострашнейше будешь. Сам, как гляну на тебе, так под себя будто валю, страшно делаетси. Вот этими руками из тебя страхоюдину слепил. Вот зеркал не имею токи и скажи спасибо за то, заикой не станешь! – и он протянул руки в засохшем курином дерьме под самый нос тяжело сопящего Эльбруса Эверестовича. Шаман потряс руками и продолжил:
– От твоих сказок страх меня не дёргает, а вот кобель, гляжу я, даже морды в твою сторону не воротит, а он у меня не из пужаных, не раз медведю шерсть на жопе драл. Гляди у меня, ноги ежели унесёт за забор, с тебя спрос, ты меня знаешь! Не смей пужать пса, поласковей с ним, моргай правым, пока светит, да почаще, он любит, когда ему моргають. Животина всё же, и она пужаться могёт. А теперь давай симитрию делать буду! – он схватился за левый конец палки и, кряхтя, потянул на себя.
В позе, которую трудно представить даже индийскому йогу, за порогом большого сарая, то ли сидел, но так не сидят, то ли лежал, но так не лежат, валялось живое изваяние в перьях, напоминающее индейца. Этот русский, не глупый индеец, находился в глубоком недоумении: как сумел дикий полуякут, далеко не глубокого и совсем не изобретательного ума, не говоря уж о какой-то там фантазии, слепить из него – это …? И ему вдруг стало не по себе, даже страшно! Он отдал бы золотую горошину, только бы сейчас, на одно мгновение взглянуть на себя в зеркало. Мучительно, до ломоты костей, и без того побитой черепной коробки, не терпелось узнать, что же изобразил местный художник, если даже кобель, действительно, не смотрит в его сторону? И почему Шаман ушёл, может и впрямь уже наложил…, да быть такого не может? «А волк с медведем близко не подойдут!», вспоминал Шамановы слова русский индеец. Всё это сейчас сильно озадачило Эльбруса Эверестовича.
Неузнаваемое живое существо в нелепой позе, не присущей человеческому скелету, умудрилось трезво, без паники и вслепую, проанализировать, как бы со стороны, картину выставленного экземпляра изобразительного искусства, которой был налицо продемонстрирован в дверном проёме сарая. И конечно же виновником, что он стал неузнаваем, был он сам! Зачитывающийся с детства книжками приключений и фантастики, он, одарённый с рождения рассказчик, загремевший волею судьбы на три года на тюремные нары, не давал скучать угрюмым дядям в мрачном интерьере серой камеры. Он уставал, а его просили и просили эти взрослые, матёрые дядьки продолжать рассказ о захватывающих приключениях и великом вожде индейцев – Чингачгуке-Большом Змее. Камера затихала, умел Фармацевт заворожить рассказом. Бандюги уважали его за это и не давали в обиду за его малый рост и малый вес. Шаман являлся авторитетным паханом в камере и, зная толк в золоте, как бывший старатель, Эльбруса Эверестовича окрестил метким погонялом – «Недовесок»! Когда Недовесок начинал рассказ по просьбе сокамерников про Большого Змея, Шаман молчаливым движением руки давал знать, что он согласен. Видимо, образ бесстрашного индейца, крепко зацепился в «прямых» извилинах его бесшабашной головы, а рассказчик мастерски умел будоражить воображение, иначе, Шаман никогда бы не взялся за творческую работу, которую только что завершил. А работа, действительно, сделана была с душой, в эдаком акробатическом, с элементами «сказочного» садизма, жанре.
«Дочитался до чёртиков…, дорассказывался! Всё сбылось, всё по книжке, всё по начитанному! И как только застрял в его башке этот вождь племени в перьях? Ведь сколько других, лихих героев он преподнёс им за три года? Зацепил он Шамана, работает воображение зверюги», – Эльбрус смотрел правым глазом, (который тоже скоро закроется) на свою правую ступню и на торчащие между пальцев толстые, гусиные перья. Резкий запах куриного дерьма на ноге нещадно лез в ноздри гонимый встречным, лёгким ветерком. «Это только нога, а что же он наверху изобразил…? Боже – это что-то ужасное? Кто же подойдёт ко мне? И вечер не за горами, а там и ночь! Быть-то, как?»