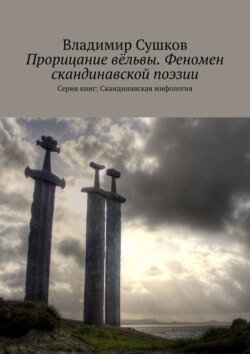Читать книгу Прорицание вёльвы. Феномен скандинавской поэзии. Серия книг: Скандинавская мифология - Владимир Сушков - Страница 5
Чем является «Прорицание Вёльвы»?
Сотворение мира
«Прорицание» вдохновлялось христианской молитвой?
Оглавление3 В начале времен,
когда жил Имир,
не было в мире
ни песка, ни моря,
земли еще не было
и небосвода,
бездна зияла,
трава не росла.
Наиболее полным можно считать комментарий советского филолога-скандинависта Михаила Ивановича Стеблин-Каменского, который я перефразирую ниже.
не было в мире
ни песка, ни моря,
Эти природные черты характерны в первую очередь для пейзажа Исландии. Если море можно считать важным географическим объектом для всех скандинавов, то песок характерен только для Исландии. Здесь, автор поэмы пытается изобразить отсутствие в начале времен таких банальных вещей, как песок и море. В подлиннике помимо песка и моря, упоминаются также и холодные волны, что также характерно для исландского климата.
земли еще не было
и небосвода,
В этом месте мы можем проследить явную параллель с Вессобрунской молитвой:
Весть мне поведали люди, / дивную мудрость великую:
что не было древле земли, / ни выси небесной,
ни древа, / ни гор,
ни звезды, / велелепного моря,
и солнце еще не сияло, / луна не светила допреж…
Когда было ничто / без конца и без краю,
был лишь только / Господь всемогущий.
И с Господом вкупе / ангелы славные
встарь пребывали. / И Бог наш святой…
Вессобрунская молитва – это рукопись конца VIII века или начала IX века, написанная на нижненемецком языке. В качестве диалекта выступает и англосаксонский, исследователи полагают, что эта молитва была написана где-то на юге Германии, вполне вероятно, что в Баварии. Возможно, что рукопись была написана при правлении династии Агилольфингов, во время которых началась христианизация Баварии.
Вне всякого сомнения, что «Вессобрунская молитва» была написана по поэтическим формулам германо-скандинавского эпоса, с использованием аллитераций и характерных для германской поэзии построением строф. Характерно, что многие исследователи видят здесь параллель и со стихами из индуистской Ригведы.
1. Тогда не было ни сущего, ни не сущего; Не было ни воздушного пространства, ни неба над ним. Что в движении было? Где? Под чьим покровом?
Чем были воды непроницаемые, глубокие?
2. Тогда не было ни смерти, ни бессмертия, не было
Различия между ночью и днем. Без дуновения, само собой дышало Единое, И ничего, кроме него, не было.
3. Вначале тьма была сокрыта тьмою, Все это было неразличимо, текуче. От великого тапаса зародилось Единое, Покрытое пустотою.
4. И началось тогда с желания – оно
Было первым семенем мысли. Связку сущего и не-сущего
Отыскали, восприемля в сердце, прозорливые мудрецы.
Гимн из Ригведы «Насадия-сукта»
Можно сказать с полной уверенностью, что сходство между «Прорицанием вёльвы» и «Вессобрунской молитвой» не случайны, однако, чем обусловлено это сходство? Есть несколько вариантов:
– Автор «Прорицания» пользовался «Вессобрунской молитвой» в качестве источника.
– У «Прорицания вёльвы» и «Вессобрунской молитвы» был один источник, на который они опирались.
– Или же оба этих произведения опирались на единую формулу повествования, характерную для скальдической поэзии германцев и скандинавов.
Вполне возможно, что верен и третий вариант, интересно то, что «Вессобрунская молитва» по своим мотивам является чисто языческой, с вкраплением христианского догматизма. Об этом говорит упоминание автором молитвы частей окружающего мира, традиционных для языческих верований: Земля, небо, солнце, луна, звезды, лес, горы. Вероятно, что «Вессобрунская молитва» является переосмыслением языческого начала мира в мифологии германцев, которое было переделано на христианский лад. Пожалуй, я не соглашусь со многими исследователями, которые увидели в «Прорицании Вёльвы» заимствования из «Вессобрунской молитвы» и я склоняюсь к тому мнению, что такое написание было ничем иным, как магической формулой описания окружающей действительности, характерной для германской поэзии.
бездна зияла,
трава не росла.
В этом месте вёльва говорит о зияющей бездне, которая в подлиннике называется Гиннунгагап. Бездна – универсальный мономиф для всех народностей мира, и не является отличительной особенностью индоевропейского мира. Она встречается:
– У греков:
И сообщите при этом, что прежде всего зародилось.
Прежде всего во вселенной Хаос зародился, а следом
Широкогрудая Гея, всеобщий приют безопасный, Широкогрудая Гея, всеобщий приют безопасный,
Гесиод, Теогония, 115—118
— У иудеев и христиан:
В начале сотворил Бог небо и землю.
Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою.
Бытие 1:1 – 1:2
– В шумеро-вавилонской мифологии. Тиамат – женское олицетворение первобытного океана-хаоса соленых вод.
– Египетский Исфет, что существовал до всего сущего. Противопоставляется принципам благородной и законной Маат. Интересно, что с египетского языка Исфет может переводиться, как «хаос», так и «насилие», «несправедливость».
– Хуньдунь, китайское мифологическое существо, которое олицетворяло первобытный хаос.
Интересно то, что в отличие от остальных мифологий (не беря в расчет монотеистическую Бездну из книги Бытия), хаос представляет из себя какое-либо «одушевленное» существо. У скандинавов Гиннунгагап был обычной первичной хаотической субстанцией, о чем нам намекает и этимология этого слова. Префикс «ginn» означает сакральность того предмета, о котором идет речь (в данном контексте ungagap). То есть, Гиннунгагап ничто иное, как священная пустота. Здесь мы можем видеть контраст с другими мифологическими воззрениями. В Египте Исфет был олицетворением хаоса, и коннотация этого слова являлась негативной, то же можно сказать и о шумеро-вавилонской Тиамат.
бездна зияла,
трава не росла.
Стеблин-Каменский, в данном моменте, так же указывает на типичность исландского пейзажа. Основным занятием (за исключением рыбной ловли) исландцев были скотоводство, и трава была обязательным атрибутом для данного типа хозяйства.
4 Пока сыны Бора,
Мидгард создавшие
великолепный,
земли не подняли,
солнце с юга
на камни светило,
росли на земле
зеленые травы.
Сыны Бора – это Один, и его братья, Вили и Ве, которые более нигде толком и не упоминаются в скандинавской мифологии. Многие ученые предполагают, что Вили и Ве являются эманацией Одина, или его божественными функциями. Нельзя не отметить и то, что имена этих трех богов являются прямой аллитерацией (Wōdinaz, Wiljô, Wīhaz), и скорее всего они представляют из себя либо божественную триаду богов, либо единое божество, где Воданаз, то есть Один, является главенствующим. Также, данная аллитерация может означать магическую формулу, с которой обращали молитвы.
Пока сыны Бора,
Мидгард создавшие
великолепный,
земли не подняли,
Здесь идет речь о предшествующем созданию Мидгарда событии. Три бога расчленили Имира и сделали из его частей тела видимый мир, в том числе и Мидгард.
5 Солнце, друг месяца,
правую руку
до края небес
простирало с юга;
солнце не ведало,
где его дом,
звезды не ведали,
где им сиять,
месяц не ведал
мощи своей.
Важно обратить внимание, что Солнце в этом стихе названо другом месяца. В подстрочном переводе вместо слова друг, используется слово «родич», это говорит о том, что скандинавы полагали Солнце и луну родственниками. Но в данном стихе преобладает влияние Луны, т.к. древние люди считали время именно по луне просто потому, что так удобнее. Полноценный лунный месяц включает в себя тридцать дней и естественно, для древних людей, считать время (в данном случае месяца) было удобнее по Луне, которая имеет различные фазы, нежели по Солнцу, всегда остающемуся в константе.
Этот стих посвящен созидательной мощи божеств и их творческому началу. Именно боги установили порядок, чтобы «Солнце узнало, где его дом», и «звезды поведали, где им сиять». В таком ключе мы видим, что боги являлись олицетворением порядка, в противоположность Гиннунгагапу.
Хотя, некоторые исследователи полагают, что в этом стихе идет речь об описании полярной летней ночи.
6 Тогда сели боги
на троны могущества
и совещаться
стали священные,
ночь назвали
и отпрыскам ночи —
вечеру, утру
и дня середине —
прозвище дали,
чтоб время исчислить.
Здесь интересен именно философский подтекст стиха, говорящий о том, что времени вне бытия не существует. Пусть этот отрывок и мифологизирован, однако с точки зрения науки он полностью корректен. Времени вне материи быть не может.
Что автор подразумевал под «тронами могущества» мы понять не можем, вероятно, это всего лишь поэтическая метафора без особого смысла.
Интересно, что здесь автор называет утро, день и вечер отпрысками ночи. Дело в том, что раньше свет считался порождением тьмы.