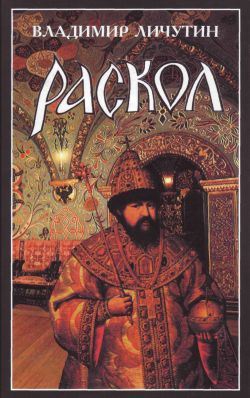Читать книгу Раскол. Роман в 3-х книгах: Книга I. Венчание на царство - Владимир Владимирович Личутин - Страница 7
Глава четвертая
ОглавлениеБогдан Матвеевич Хитров, разваляся в бархатном креслице, заучивал по Шестокрылу, изданному в Вильне в 1586 году, шабашную песню ведьм на Лысой горе, когда-то, говорят, подслушанную неведомым казаком. Книга была выменяна у немца-лекаря Давыда Берлова за полдюжины собольих хребтин в прошлом месяце и хранилась в страшной тайне. Залучив Черную книгу, Богдан Матвеевич смертно повязал себя с иноземным лекарем: за подобные забавы грозила царева опала и ссылка. Хитров не раз подступался к чародейскому письму, но с первой же страницы приходил в опаску: «Сия печаль премудрого царя Соломона притолковася от мудрого некоего ритора. Толк же ее сице расположился, яко зде ниже сего предложися. Зри опасно, увеждь известно».
Нынче же государь круто обидел Хитрова, толкнув ногою в лоб, и спальник отчего-то мстительно раскрыл Черную книгу. Лекарь Берлов был тут же в гостях, утешался чаркою романеи.
Читал обавную книгу карла Захарка; он притулился у ног хозяина на низенькой скамейке, покрытой тканым налавошником.
«... Вихара, ксара, гуятун, гуятун», – звонко печатал слова Захарка и вопрошающе подымал на царского спальника по-восточному печальные круглые глаза. Окольничий послушно повторял за карлой: «Вихара, ксара, гуятун, гуятун». И тут же бранился, де, сам черт ногу сломит в этой тарабарщине, оборачивался в красный угол и поспешно крестился на образа.
Лиффа, прадда, гуятун, гуятун,
Наппалим, вашиба, бухтара.
Мазитан, руахан, гуятун.
Жунжан.
Яндра, кулайнеми, яндра.
Яндра.
Лекарь Давыд Берлов встрепенулся, лицо его кисло скуксилось, будто съел жмень клюквы.
– О, майн Готт... Мой фатер и мой муттер не знали, что русиш такой пьянец и глупец. Они бы не пустил меня в Россию. Пропал бедный Давыдка, совсем пропал.
– Это не зазор, не-е, – оправдывался Хитров. – Наука из чужого ума. Ей в моей голове надо место сыскать.
– Хорошо, если найдется, – лекарь перестал ломать слова; он знал язык Московии, как свой, гамбургский. – Надо, чтоб отлетало от языка. Тогда дух будет от слова, испарение, туман. И польза... Гуту! Алегремос! Астарот! Бегемот! Аксафат, Сабабан! Тенемос! Гуту! Маяма, не, да, кагала! Сагана! – чеканул лекарь. – Вот как заучишь, Богдан Матвеевич, все ведьмы за тобою встанут и царь твой... – Лекарь Давыд Берлов засмеялся и пропустил пятую чарку романеи, с лихостью запьянцовского гуляки пристукнул серебряным донцем о стол. – Я тебе девку литовку подарю. Чародейка. Сквозь землю на сто сажен зрит, такая чертовка.
– А я чем отплачу?
– Дружбою... Докучать не буду, но и задремать не дам. – Берлов оправил кружевные манжеты на рукавах и выпрямился в кресле, будто проглотил мерный железный аршин. Был лекарь в пепелесом камзоле, в коротких штанах, перетянутых под коленями, в сиреневых чулках и башмаках рыжих с пряжками. Черный шелковый бант кустом расцвел на бритой кадыкастой шее, подпирая надменную квадратную голову. Густой волос подобран коротко, как кабанья щетина, и отливал сталью; глаза также сталистые, слегка навыкате, и жесткая щетка усов над тонкими язвительными губами, постоянно искривленными в ехидной усмешке. Статью своею, породой Давыд Берлов больше напоминал драгунского майора, чем лекаря. Богдан Матвеевич также разоделся за-ради гостя в красный камзол немецкого покроя, расшитый травами золотною ниткой, со стоячим узорным воротником, в шелковые белые чулки и башмаки из зеленого сафьяна, унизанные яхонтами. Этими дорогими каменьями и комнатными чувяками лишь и походил Хитров на русского боярина. Хитров нравился самому себе, часто поглядывая на высокое стоячее зеркало в черной резной раме, был сыт, слегка захмелен и потому миролюбив. Даже Шестокрыл на коленях карлы он принимал как за допущенную забаву и вольностью этой тоже гордился. Достакан, обвитый золотыми змеями с рубиновыми глазами (подарок Бориса Ивановича), был полон французского сладкого вина, и хозяин едва пригубил его. Хитрову льстило, что образованный лекарь из Немецкой слободы ищет с ним дружбы, и охотно принимал Берлова в своем не последнем на Москве дому. Хитров в левой руке, слегка жеманясь, держал фарфоровую ганзейскую трубочку с табаком и редко, но сладко потягивал ее, любуясь истекающим свивающимся в кольца дымом. Он скучающе обводил взглядом гостевую палату, обитую кизылбашскими дорогами, где по брусничной земле цветут золотные кусты. Эту восточную тафту Хитров сам подбирал для гостевой, чтобы особенно изысканно смотрелась мягкая и узорная, на птичьих лапах стоялая утварь, доставленная от дегов. По стенам висели четыре потешных немецких печатных листа из Библии Пискатора, купленные на Болоте в овощном ряду. Окна из веницейского стекла покрывали занавеси из астрадамской камки. Только образ Николы Можайского на полице да неугасимая лампада под ним подсказывали, что это хоромы православного человека...
– Мне Ордин-то, выскочка, каково... Ты, говорит, Бога не любишь. Это я не люблю? И Бога люблю, и все иные народы люблю, как завещал Господь наш, отвечаю. А он: что нам за дело до обычаев иноземных: их платье не по нас, а наше не по них. Это от зависти государю, чтоб сшибить меня...
– А что государь?
– Он ему отрезал: цени дерево не по цвету, но по кореню. Каково, а? Алексей Михайлович по мне без души, он меня всякому ханже не выдаст. – Богдан Матвеевич приосанился, взбил на лбу рыжий клок. – Я царю люб, он не даст мне измозгнуть понапрасну. Я заветное слово знаю. Верно, Захарка? – Хитров ловко поддел карлу со скамейки одной рукою и посадил к себе на колени, запустил пальцы в черный нарядный волос. Был карла в лазоревом немецком кафтане и зеленых сапогах.
– Батько добро помнит, – коротко сказал Захарка. Издали он вовсе походил на ребенка чистотою лица, какою-то прозрачной белизной кожи и брусничной яркостью губ, он был картинно, вызывающе красив, и лишь когда задумывался, погружаясь в себя, то в тускнеющих глазах сразу проступала тоска и возраст. Карла с хозяином были одного года.
– Тсс-с! – Хитров приложил палец к губам. – То страшная тайна.
– Я тайны твоей не решаюсь знать, – подольстился Берлов. – Ты человек верховный, не мне чета. Но знать бы хотелось.
Но Богдан Матвеевич оставил уловку без ответа: он рассеянно улыбался, покуривая трубку, и по-прежнему ворошил Захаркину голову. Да и то сказать: с тайною и сам человек иной, ему другая цена.
...А дело-то было из ряда вон. На медвежьей охоте в звенигородских лесах, когда царь брал зверя из берлоги на рогатину, подломилось вдруг ратовище, и Алексей Михайлович очутился под лесным хозяином. Подмял государя медведко и давай ворошить. И никого возле: ни ключников, ни стряпчих, ни окольничих, ни верных псарей, ни загонщиков, ни ближних бояр, ни думных дворян. Уже в памороке был государь, вовсе терял сознание, когда медведь, хрипя, вдруг отвалился на сторону. Это Богдан Матвеевич, бывший тогда в стольниках, оказался невдали, поспешил на помощь и кинжалом выпустил из медведя дух. Но странным было то, что царь на смертном поединке отчего-то остался один, без догляду и присмотру, словно бы вся челядь внезапно решилась проверить государеву судьбу. Происшествие затаили, грех свалили на случай, спасение на Господа и местночтимого святого Савву Сторожевского, но царь с тех пор баловал и тешил Хитрова, особенно приблизив к себе.
– Я тебе, Богдан Матвеевич, литовку дам во временницы. Она не только колдунья, но и целебница и утешница. Впрямь по-русски будет, ягодка красная. – Берлов поцеловал щепоть, но каменное выражение его лица не переменилось. – Аль струсишь, боярин?
– Никогда не трушивал и слово такое не ведомо, – веско упрекнул Хитров. – Трех агарян на пику брал и не пошатнулся. Ты, Берлов, дразнишься иль виды имеешь?
Давыд Берлов смутился, но тут же овладел собою.
– Ты, боярин, славный рыцарь. Этого не отнимешь. Хотя клянусь всеми чертями, что если бы десять татар поверстались в поле с тремя сотнями русских, то все ваши русские еле живы повалились бы на землю и дали бы развалить себя, как репу. – С этими словами Давыд Берлов приосанился и обвел гостиную палату таким победным взором, словно бы он-то и выиграл сражение. Вот вроде бы хозяев настрамотил, нагнал на честное русское имя напраслины, но ни капли сомнения иль смущения не мелькнуло в остром самоуверенном взгляде.
Но и хозяин-то каков, хозяин Хитров: он лишь крякнул, виноватясь за весь русский народ, и отвел глаза в глубокую оконницу, где виделся дальний краешек неприбранного апрельского подворья. И эта грустная картина неухоженности, какого-то всеобщего развала вроде бы лишь подчеркнула правдивость слов немца. Вон бредет едва челядинная баба, кажись, ключника Ерофея жена, с подоткнутым домотканым костычем, в опорках на босу ногу, и кому-то кричит озорное, и лыбится всем широким шадроватым лицом, морща нос утушкой, и показывает пальцами замысловатую фигуру, черт знает чему и рада только, дура набитая: солнцу ли хмельному, иль наводяневшему, едва живому снегу, иль близкой рыбной естве, – вчера привезли с Москвы-реки две дюжины двуаршинных щук, и вот нынче на всю дворню и челядь и самому Богдану Матвеевичу сварена ушица из живой рыбы.
У коровьего двора скотницы выкидывают навоз, готовя его под пахоту, и куры сбегаются к нему со всего двора, распугивая воробьев; желтеет гора свежих березовых поленьев; конюхи сметывают сено в лабаз, и тут же, широко расставив ноги, мощно прудит гнедая кобылица. Струя бьет со звоном в снег и прожигает его насквозь, до самой молодой травы, торопя ее наружу. И хотя из-за толстых каменных стен, из-за оконцев, больше похожих на башенные бойницы, ничего вроде бы и не слышно, но Богдан Матвеевич все дворовое, вседневное не только видит, но и слышит, и чует на запах, и даже кизылбашские мохнатые ковры, устилающие хоромы, ничуть не утешают. Все тот же надоевший вид, будто из поместья не выезжал, будто из деревни можайской да в иную, растекшуюся на семи холмах, как кисель, и никакой ложкой не собрать в кучу. Господи, скука-то!..
Так переживал Богдан Матвеевич московское окольничье сидение, хотя исполнилось ему намедни лишь двадцать восемь лет. Потому ничего и не возразил, но даже благосклонно кивнул, де, Русь не чета ни свеям, ни дегам, ни паршивым полячишкам, пожалуй, во всем мире не сыскать места похуже. Ни сварить толком, ни построить чего, ни ковра соткать, ни дорог стоящих, ни посуды, ни разговора. Зимой снег, весной грязь, летом пыль. Куда уж там равняться с немцем? лишь смиренно склони очи долу; вот и весь сказ.
Но заступился вдруг карла Захарка. Эта расписная живая кукла, будто бы слепленная из тончайшего фарфора, досель смиренно торчавшая на коленях у хозяина, встрепенулась и оборвала кощуны Давыда Берлова:
– Ты скажи еще, Давыдка, что мы скотьи дети, что у нас один глаз и тот на брюхе, а уши на заднице растут, что мы заместо курей яйца выпариваем, что мы грибы и ничтожный помет, что мы не мужики и не бабы, а дохлые собаки. Ах ты фрыга, прискочил за русским куском и лаешь... Как же это случилось, что русские по милости Божией взяли три татарских царства, разбили в пух и прах хана Мамая и твоего хваленого шведа немало гоняли, пока не запросил милостей. Вы, фрыги, от скупости даже кошачий помет жрете... Кукуй, покажи свой... – вдруг выпалил Захарка обидную для всякого немца дразнилку, подслушанную на московских улицах.
Богдан Матвеевич поначалу замешался, но не стерпел и неудержимо рассмеялся, сунул фарфоровую трубочку карле в рот; тот с отвращением сплюнул, вытер губы и закинул табачную соску в дальний угол к опечку. Хитров в назидание без сердца щелканул карлу в затылок.
– Ну, брат Захарка, ой уморил! Значит, кошачий помет едят? И неуж верно?.. А ты свой-то стручок нам выкажи! – задорил он дворового шута, так радый забаве.
– Покажу, так немчин от зависти помрет. Веком таких не видывал. У меня с загогулиной да золотой с серебром.
– Ой-ой... Золотой с серебром, – повторял Хитров, закатываясь в смехе, и все его голубоглазое, ребячье, в крупных веснушках лицо полнилось неподдельным удовольствием: он, хитрец придворный, лишь сейчас забылся и на миг стал самим собою, разгуляй-хватом, каким родила его мати. И стало понятно, отчего любит великий самодержец Богдана Матвеевича.
Но Берлов сидел туча тучей, тихо наливался грозою – а гнев Берлова на Москве знаком. Давно ли за поперечные слова купчине Марселиусу он горло перерезал, едва отвадились с тем. Поймав белесый от бешенства взгляд лекаря, Хитров успокоился, зарокотал, проглатывая остатки смеха:
– Ну что ты, будет тебе, Берлов. На Захарку, что ли, пообиделся? Так плюнь.
– Я вот ему сейчас дам чистительного, чтобы весь на лайно изошел. – Берлов расстегнул камзол, наверное, взаправду полез в зепь за порошком, а после, затаив что-то в пригоршне, потянулся к карле. – Вот сейчас тебе и будет струк...
Лекарь хотел поймать карлу за нос и промахнулся: тот ловко отпрянул, состроил испуганную гримасу, обнял хозяина за шею:
– Ой, что-то боюся я его, Богдан Матвеевич. Лутер поганый, алгимей, затянет он нас дуриком в ловушку.
– Поди на конюшни и скажи Федотке, чтоб тебе язычок притупили. – Хитров согнал карлу с колен. – Больно ты востер и неуважлив.
– Неуважлив, да верен, – откликнулся Захарка от двери.
Берлов, провожая карлу нехорошим, запоминающим взглядом, неулыбчиво посоветовал:
– Приказал бы ты его палками почесать... О, майн Готт, руссиш швайн... недопесок.
Хитров улыбнулся, подмигнул отчего-то заговорщицки лекарю и с ласковой миною сказал:
– Я и тебя прикажу постегать, что блюстися не хочешь. Будешь коли рычать, кончишь дни свои в Тоболеске. – Хитров налил немчине из братины и, столкнувшись своим достаканом с его чарою, доверительно продолжил, понизив голос: – Ты, немчин, хочешь меня ухапить, догадываюсь я, а из моей усадьбы становище сделать для своих бессудий. Да записать меня в свои лазутчики и прелагатаи. Не так ли?
– Оле! – вскинул руки Давыд Берлов. – Я к вам нижайше и изысканно... Почтению моему к вам нет предела, Богдан Матвеевич. Я шута поддразнил лишь, а вам причудилось. Вам, русским, везде снятся да видятся лазутчики и шпионы, словно бы у немецкого предпринимателя нет никаких иных видов. Мы устрояем жизнь, мы устроители, мы с рождения и до смерти строим свое благополучие. Я бы на вас положил обиду, но я вас искренне уважаю. Вы рыцарь! Оле! Вы большой человек! Какие претензии, Богдан Матвеевич...
– Значит, поблазнило мне...
– Вот-вот...
– Ну и слава Богу. Я немчин-то люблю. Хоть и заносчивы не в меру и жадны до безрассудства, но зато жить умеют...
Хитров недоговорил: в это время вошел дворецкий и доложился, что явился стольник с подачею от государя. Хитров приказал отворять ворота: он и сам видом переменился, приосанился, вся порода вылезла наружу, и лекарь, до того на равных сидевший с окольничим за беседою, сразу помельчал, отстранился за ту незримую черту, где положено быть слугам.
Богдан Матвеевич из поставца выбрал новую фарфоровую трубочку с розовым мундштуком, набил ее любекским табаком, на голову надел шапку червчатого бархата с собольим околом, внимательно погляделся в зеркало и пошел из хором, поманив с собою лекаря. На крыльце усадьбы он остановился, оглядел дом: в слюдяных оконцах увидал охочие до зрелищ лица многочисленной дворни; потом посмотрел вниз, где у медной пушчонки, захваченной у свеев с боя, застыл привратник, и взмахнул рукою. Привратник поджег фитиль, пушчонка лайкнула, два дюжих челядинина развели дубовые створки ворот, в проеме высокого, заостренного палисада показались теремные служивые. Впереди шел бедный князь Иван Мещеринов, недавно просивший Хитрова устроить ему воеводство в кормление, следом ключник нес серебряное блюдо со стерлядью паровой живой с царского обеденного стола, а замыкали шествие два истопника.
Стольник Иван Мещеринов отбил трижды земной поклон, и Хитров также низко поклонился, держа трубочку на отлете, не спеша спустился с хоромной лестницы.
– Великий государь Алексей Михайлович тебя, Богдан Матвеевич Хитров, подачей жалует, стерлядью паровой живой. – Стольник снова низко поклонился, Хитров махнул рукою, и дворецкий поспешно подошел, принял подачу, – а лежала на серебряном блюде стерлядь фунтов на двадцать, не менее, свежего волжского улова.
Хитров, не глядя за спину, снова приказал рукою, и затинная пищалица лайкнула другорядь: пусть соседи знают и завистливо разнесут по Москве, что окольничий Богдан Матвеевич Хитров царской милостью нынче отмечен. Отходчив государь и незлопамятен: вишь вот, утром в зубы, а в первом часу пополудни паровой стерлядью как бы прощения просит за обиду... Хитров пригласил князя Мещеринова откушать рыбки, но царев посланник учтиво откланялся: не всякое званье ко времени. И верно угадал: вторично Хитров не настаивал...
Они вернулись в Гостевую палату докушивать. Хозяина томило, что разговор вроде бы оборвался не в мирных душах. Лекарь – человек нужный: хоть и лутер, и обавник, и с чернокнижниками, звездобайцами знается, но опять же не хлебогубец, не бездельник, при нужном ремесле, в Кукуе, Немецкой слободе, человек громкий и при вожжах. Не в хомуте, не в погонялках, не в догонялках, но при вожжах.
– Немчин я уважаю, – продолжил разговор Хитров, невольно как бы заискивая перед лекарем. – А гречан на дух не переношу. Ведь как ведется: русского цыган обманет, цыгана – жид, жида – грек, а грека – черт. Худо, что греки к нам повадились. Мало что попрошайничают, так и свою волю на нас норовят. Не про них ли та старая притча. Слушай-ка... Звал ячмень пшеничку: «Пойдем туда, где золото родится, мы там с тобою будем водиться». Пшеничка сказала: «У тебя, ячмень, длинен ус, да ум короток. Зачем нам с золотом водиться, оно к нам само привалится». Так вот греки, как тот ячмень, нас куда-то манят, а куда, в толк не возьму.
Лекарь молчал, мотая на ус, но тут не сдержался:
– Слышно, царь гречан жалует.
– Государь знает, кого любить, – снова вдруг загрубился Хитров. – Никто не смеет судить царские думы. И не тебе, лекарь, свой нос совать куда не след. Ешь давай, немчин, да пей, пока взашей не гонят, и кончай брусить.
– О, майн Готт. Над каждым моим словом твой топор, – искренне вскипел лекарь и тут же дал отступного. – Повинуюсь, повинуюсь, мой господин. Только и хотел сказать: у патриарха кровь водянеет. Смотрели его нынче. И селезенка лишена природной теплоты. Недолго уж протянет. Ждите перемен...
На прощанье подарил Хитров Давыду Берлову серебряную чарку, из которой потчевал лекаря. Чем весьма удоволил гостя и притушил сердечную горечь.