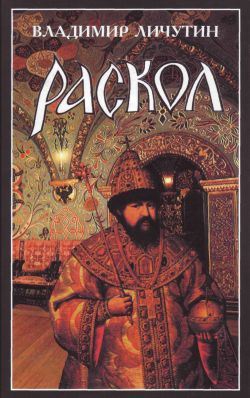Читать книгу Раскол. Роман в 3-х книгах: Книга I. Венчание на царство - Владимир Владимирович Личутин - Страница 8
Глава пятая
ОглавлениеНикакие обавники, чаровники и травознатцы, никакие звездобайцы, гадающие о судьбе по звездам, не помогут вам попасть ни в бояре, ни в окольничие, ни в думные дворяне, ежели вы смерд, рабичишко, посадский человек иль бобыль, бедный казак, бродящий по чужим подворьям в поисках хлебного куска, а тем более, ежели ты челядинин, подневольный, дворня, глядящая из чужого рта: тут и вовсе кабала вам и всей вашей родове на многие колена вглубь и вдаль. Воистину: на чужой каравой рот не разевай; не тобой положено, не тобой и взято; на все воля Господня; одному у лопаты хлебной, другому – у каравая, иному о лыко запинаться, другому холить плесны в алых бархатных башмаках, усаженных яхонтами.
Значит, то верховенство, тот устрой недостижимы для ничтожного человечишки? что это – тын необойденный? стены крепостные необоримые? надолбы и решетки запретные? пали неперелазные? Да, эти препоны и рогатки неодолимы. Но можно взлететь над ними выспрь, подняться выше любого господина на Руси. Это путь служения Господу, юдоль тернистая, где слезы – за благодать, страдание – за радость, смирение – за ликование, вековечное одиночество – розовый куст; вертоград, где можно душу спасти, – иноческий подвиг.
Как душа бренной плоти, так и монашествующий архиерей всякому боярину духовный отец и путеводитель, учитель и наставник, словесный пастырь и перст указующий – он и есть та небесная гроза, коей следует всякое время опасатися.
Ведь не сказка же: бежал с Анзерских скитов монах Никон в заплатанной рясе, подбитой оленьей шкурою, и самосшитых броднях из нерпичьей кожи, самолично скроенных на манер медвежьих лап; тайно скинулся с морского отока бывалый сын нижегородского смерда Никита Минич, едва не сгубленный мачехою в русской печи. И вот через четырнадцать лет он едет вобрат на Соловки, как посол, исполненный царского долга, новугородский митрополит, защитник всякого бедного и подневольного, гроза монастырской братии, скорый на расправу и неистовый ревнитель за истинное русское благочестие; попадает через тысячи поприщ поморскою землею в избушке, уставленной на сани-розвальни, покрытой изнутри кизылбашскими длинноворсными коврами, завернутый в медвежьи полости и в соболью шубу до пят, с архиерейской панагией на груди, подарком государя. Что и осталось с собою от прежнего чернеца, так это десятифунтовые вериги, навсегда опоясавшие грудь...
Далеко растянулся поезд царева посланника, владыки Помория. Глядит в слюдяное окошко Никон быстрыми, нетускнеющими глазами, и сон его не берет, и долгая дорога с увала на увал не томит. Монастырями развешен его путь, колоколами отпет и расхвален; и уж вроде бы тайбола заснеженная уже поглотит и сотников, и стрельцов, и бояр, и князей, и челядь многую, и подводы со скарбом и ествою, и сани со стрелецкою поклажею, и всякую огневую и ружейную справу; но в воздухе все еще висит малиновый гуд подголосков и рокот становых колоколов. Сла-ва Никону... Слава Ни-кону, сла-ва-а... Долга попажа на Холмогоры, а оттуда на Лопшеныу, а после морем. Спи, владыка, отдохни, святой отче: вот твой клирик Шушера прикорнул в ногах и давно уж, знать, досматривает десятый сон: скуфейка смялась к затылку, обнажив морщиноватый багровый лоб, и сквозь неплотно затворенные веки в узкие щели глаз за Никоном слепо и немо приглядывает что-то темное, но зрячее. Хоть и спит Шушера, притомился чернец, но и в ночи зрит неотступно за своим любимым господином. Овчинная полость сбилась с колен, и митрополит осторожно, стараясь не потревожить служку, поправил ее. Качаются боковые фонари, заливисто скрипят полозья, бубенцы напоминают: «Не спи, не спи», очнется и понугнет лошадей верховой возница; слышно, как, почуяв заминку, подскочит, матерясь, бессонный сотник: видно, задремал монастырский работник. Пока долго спит повсюдная Северная Русь, ибо на ее просторах зима во власти, и редкие короткие оттайки еще робко благовестят о приступающей весне. Завалы снега, неторный, бродный санный путь, нет-нет да и тревожно падает на крышу избушки кухта с близких елей; где-то с протягом подает тоскующий голос волк ли, собака ли. Господи, как все знакомо митрополиту, сам страннический, Христовый воздух Севера побуждает к подвигу; здесь и настоялось, окрепло иноческое чувство Никона. Тут кто-то засмеялся в боярском возке, и гневно перекосилось лицо митрополита. В чернь слюдяного оконца видит Никон чье-то матерое, породистое, окиданное гривою волос лицо в дорожной лисьей шапке с собольим околом, взглядывается в него и не спешит узнать себя.
Оле!.. Где ты, прежний чернец? какую такую странную игру затеял с тобою Господь, выдернув из крестьянского зипуна и сунув в руки ключку подпиральную... Вопию тебе, вопию, во умилении зову тебя, Исусе, сокровище нетленное; Исус, богатство неистощимое; Исусе, нищих одеяние; Исусе, вдов заступление; Исусе, сирых защитничек... Неустанно шепчет Никон, поглядывая за собою в черный прогал слюды; иногда на протяжном извиве пути вдруг как бы сквозь его лик проступает длинная вереница зыбких обозных огней... Опять из соседнего возка послышались смех, забористая ругань, помянули нехорошо женщину. Наивные, шепчет досадливо Никон. Они думают жить вечно, не ведая того, что нога их уже занесена над провалищем и, может, этой неправедной минутою они уже запечатали свою дорогу ко Христу. Ишь, государю жалуются, что допираю молитвами, службою допек, изнемогли лодари. Стыд потеряли; почитают поклон Господу за тяжкий труд. Все хотят емати, а когда отдавати? Егда суд приступит и ожжет главу? Идеже взять уговорное слово, коли Божье не почитают...
Давно ли я, самохвальный слепец-иосифлянин, возгоржался, де, Руськая земля благочестием всех одолела; а нынь вижу, как прав был иерусалимский патриарх Паисий, когда зазирал и строжил меня за церковные вины, когда открыл слепые очи мои на всеобщее наше неустроение. Чем гордились, чем? Москва – третий Рим и крепость Православия. Оле! Церковь – содом и вместилище греха: омраченный пианством, вскочит народишко безобразно в церковь и давай беса править. Волхвы и еретицы, богомерзкие бабы-кудесницы окружили Христов дом, волшебствуя, и народ с радостью пьет тот лживый напиток... Воистину греки наши благоверные и благочестивые родители, и надобно им поклонитися. Лишь из Цареграда свежим ветром продует нашу затхлость. Вот и назаретский Гавриил был на Москве, плакался о нас и скорбел, не веря ушам своим, как лаются безумны человеци, говорят скаредные и срамные речи, творят блуд, и прелюбодейство, и содомские грехи... И то: каков пастырь – таково и стадо. Что с господина шапку тянуть и стыдить его, коли у самого попа колпак давно в бесстыдстве сронен; оттого похвальное слово ныне у не боящихся Бога дворян и боярских людей: бей попа, что собаку, лишь бы жив был, да кинь пять рублей.
Государь, сосуд благовонный, сердце неостудное, инок Христов в царских багряницах; кто более его кручинится и плачется о нестроении церковном? Как прощались, скорбел: де, пастыри церкви только именем пастыри, а делом волцы, только наречением и образом учители, а произволением мучители, любят сребро и злато и украшение келейное, имеют влагалища исполнена лишних одежд...
А нынь новая кручина – патриарх помер. Настигла весть в Холмогорах: плачется государь, де, Бог наш изволил взять от здешнего лицемерного света отца нашего господина кир Иосифа, патриарха всея Руси; а мать наша соборная и апостольская церковь вдовствует, слезно сетует по женихе своем, а как в нее войти и посмотреть, и она, мать наша, как есть пустынная голубица пребывает, не имеющая подружил, так и она, не имея жениха своего, печалится... Возвращайся Господа ради поскорее к нам, обирать на патриаршество именем Феогноста, а без тебя отнюдь ни за что не примемся... Ты, владыко святый, помолись, чтобы Бог наш дал нам пастыря и отца.
...Государь ждет, велит поспешать: прилучится что да замешкаю коли, пообидеться может. Греют царевы листы сердце Никона: куда дороже они всяких лалов и смарагдов, от них щекотный огонь и глаза щемит близкой слезою. Собинный друг велит поторапливаться. Вроде бы обручены души, окольцованы, столь они томятся друг по друге. Не спи, Никон, бодрствуй: тебе выпала воля дозорить над Русью. От твоего костра разлетятся искры, и подымется пал, и горящие галки полетят над землею, и свара людская станет обыденкой.
Оглянись, Никон: не замешкал ли на отвилке, той ли дорогою наметил ход от росстани, есть еще время вспятить отай, и никто не похулит, есть места на Руси, где можно так затвориться вновь, как бы пропасть навовсе.
Никитка, помнишь ли, как, оставя отчий дом, тайком, не спросясь отцова благословения, ты бежал в Макарьев в Желтоводский монастырь, где и стал послушником и строгая жизнь в затворе не томила тебя. В летнее время ты взбирался спать на колокольню в те недолгие часы, что доставались отдыху, чтобы не опоздать к началу ранней утрени, и благовестный колокол подымал тебя на ноги грозным, но и милосердным зовом...
Никитка Минич, еще не позабыл ли ты, как невдали от того монастыря в селе Кириково жил учительный священник Анания, а ты любил вести с ним духовные беседы. И однажды, набравшись смелости, ты попросил в подарок рясу – так не терпелось тебе постричься. И старый благочестивый поп сказал тебе: «Юноша избранный, не прогневайся на меня: ты по благодати Духа Святого будешь носить рясы лучше этой, будешь ты в великом чине, патриархом».
...Греют душу царевы листы. Лежат они в дорожной укладке в замшевом мешке под боком митрополита: ничей глаз не должен коснуться их переписки; ежели и живет какая тайна на свете, так это государевы письма к собинному другу.
Торопись, Никон. Это, послушествуя твоей затее, собрал Алексей Михайлович такое торжественное посольство в Соловецкий монастырь по давно усопшую душу за прощением, по святые мощи митрополита Филиппа. Это ты сыскал в преданиях византийских, как император Феодосии посылал за мощами Иоанна Златоуста с собственной молитвенной грамотой к оскорбленному его матерью святому. И поверил тебе мягкий государь, де, пока не покается синклит перед мучеником Филиппом, умерщвленным опричником Малютой Скуратовым, до той поры не будет на Руси молитвенного смирения, быть на земле разброду и ереси и не знать более должного покоя в великом царствии. Грех за невинную кровь пал на Русь, и надобно ей очиститься покаянными слезами.
В замшевом мешке вместе с перепискою и митрополичьей печатью покоится царево послание в Господний вертоград, что написал Алексей Михайлович самолично, никому не препоручая, в слезах и молитвах, бесконечно веруя, что его искренний глас безусловно достигнет святой души невинноубиенного Филиппа Колычева и он простит царский дом: «Молю тебе и желаю пришествия твоего сюда, чтоб разрешить согрешение прадеда нашего царя Иоанна, совершенное против тебя нерассудно завистию и несдержанием ярости. Хотя я и не повинен в досаждении твоем, однако гроб прадеда постоянно убеждает меня и в жалость приводит, ибо вследствие того изгнания и до сего времени царствующий град лишается твоей святительской паствы. Поэтому преклоняю сан свой царский за прадеда моего, против тебя согрешившего, да оставивши ему согрешение его своим к нам пришествием, да упраздняется поношение, которое лежит на нем за изгнание, пусть все уверятся, что ты помирился с ним; он раскается тогда в своем грехе, и за это покаяние и по нашему прошению приди к нам, святой владыка! Оправдался евангельский глагол, за который ты пострадал: „Всяко царствие раздельшееся на ся не станет“, и нет более теперь у нас прекословящего твоим глаголам...»