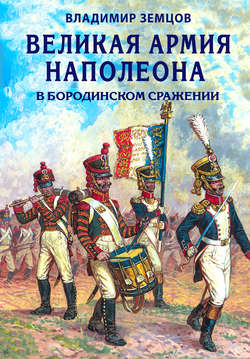Читать книгу Великая армия Наполеона в Бородинском сражении - Владимир Земцов - Страница 4
Глава 1
Историография темы, или ловушки национальной памяти
1.1. Битва при Москве-реке («французское» Бородино)
ОглавлениеИстория о том, как формировался и видоизменялся в представлениях французских историков образ Бородинского сражения, замечательна. Ее можно было бы назвать «Историей об армии, написанной ею самой». Истоки ее уходят еще в те своеобразные чувства и ощущения, которые переживались французскими солдатами в незабываемый день 7 сентября[12] 1812 г. и сразу после него.
Еще не закончилась Бородинская битва, как в 3 часа пополудни начальник Главного штаба Великой армии маршал Л.-А. Бертье отправил министру внешних сношений Франции Г.-Б. Маре, герцогу Бассано, сообщение о выигранном сражении: «Его величество атаковал неприятеля в 5 часов утра. Он [неприятель] совершенно разбит. Сейчас 3 часа, враг полностью отходит, император его преследует. Напишите в Париж»[13]. Через три дня в Можайске Наполеон, не имея возможности из-за ларингита диктовать, собственноручно составил 18-й бюллетень Великой армии[14]. Наполеон попытался представить «битву при Москве-реке» как полную и решительную победу над русскими войсками. По утверждению бюллетеня, уже к 8 часам утра неприятель был сбит со всех позиций, и хотя после этого он еще пытался их возвратить, но всюду был отражен; к двум часам пополудни сражение фактически было закончено. Русские потери оценивались в 40–50 тыс., французские – в 10 тыс. «Не было подобного поля битвы, – гласил бюллетень, – из шести трупов один принадлежал французу, а 5 – русским». Хотя бюллетень и упоминал о 6 убитых французских генералах и 7 или 8 раненых, но потери среди русского генералитета оценивал в 40 человек; общее количество пленных – в 5 тыс.; количество захваченных орудий – в 60! Особо в бюллетене отмечались действия маршала М. Нея, командующего резервной кавалерией Неаполитанского короля И. Мюрата, дивизионного генерала О.-Ж.-Г. Коленкура, коменданта Главной квартиры Великой армии, и некоторых других. Только о дивизионном генерале Ю. А. Понятовском, командире 5-го (польского) армейского корпуса, было сказано, что он «сражался за леса с переменным успехом». В целом, по бюллетеню, битва должна была предстать как упорное сражение, которое, благодаря героизму солдат Великой армии и гению императора, оказалось решительно выиграно: русская армия полностью разбита, а дорога на Москву совершенно открыта. Похожие цифры своих и неприятельских потерь Наполеон называл и в письме 9 сентября, адресованном австрийскому императору Францу I[15]. Однако днем ранее, в письме к императрице Марии-Луизе, он говорил о 30 тыс. русских потерь и уклончиво («У меня было много убитых и раненых») – о своих[16]. Общие силы неприятеля перед сражением во всех трех документах оценивались Наполеоном в 120–130 тыс. человек. Конечно, эта картина сражения во многом была рассчитана на публику, как свою, так и европейскую. Сам Наполеон, отложив написание бюллетеня до 10 сентября[17] и оставаясь в Можайске до 12-го, не исключал вероятности нового сражения, поскольку бой 7-го явно не принес ему решительной победы.
Большую активность в стремлении раструбить по всей Европе об абсолютной победе Наполеона под Бородином проявил Маре, находившийся в те дни в Вильно и занимавшийся не только устройством тыла, но и своего рода «пропагандистским прикрытием». Ряд сохранившихся писем, отправленных тогда Маре в европейские столицы и отдельным лицам, являют собой яркие примеры пропаганды тех лет[18].
Однако было бы неверным утверждать, что все написанное в бюллетене было совершенной выдумкой хитроумного политика и полководца. Испытав 7 сентября сильнейшее напряжение, проявив величайшую доблесть и отбросив противника, солдаты Великой армии ощущали себя победителями. Впереди была Москва, которая ассоциировалась с почетным миром и завершением всех трудов и лишений. Из сохранившихся 93 писем, отправленных чинами Великой армии после сражения в сентябре 1812 г. (25 из них принадлежат маршалам и генералам, 52 – офицерам, 3 – чиновникам, 7 – рядовому составу, у авторов 12 писем чины и должности идентифицировать не удалось), ни в одном не было зафиксировано сомнений в одержанной победе, хотя авторы многих и признавали собственные большие потери[19].
Последовавшие вскоре после Бородина события (пожар Москвы, полное трагизма отступление из России, ожесточенная борьба в 1813–1814 гг. и реставрация Бурбонов) заставили французов на время отложить воспоминания о сражении при Москве-реке. Однако уже после первого отречения императора в 1814 г. в Париже стали выходить публикации о русской кампании, авторы которых писали и о Бородинском сражении[20]. Наибольшее внимание привлекла брошюра Р. Ж. Дюрдана, новообращенного роялиста, которого русский историк А. М. Васютинский точно охарактеризовал как «художника-неудачника, маленького мастера на все руки, поэта, романиста и, при случае, историка, – если хорошо заплатит издатель…»[21]. За развязностью опытного фельетониста отчетливо проступала полная невежественность автора в военных вопросах. Первая попытка критически оценить действия Наполеона в битве под Бородином была явно неудачной.
Гораздо более аргументированная критика прозвучала из уст участника сражения Луи-Эжена-Антуана Лабома (1783–1849), бывшего в те дни инженером-капитаном в штабе 4-го корпуса вице-короля Италии Е. Богарне. Его повествование выходило за рамки обычных воспоминаний, и перед читателем впервые предстала панорамная картина Бородинского сражения, проникнутая трагизмом происходившего. Основываясь почти исключительно на своих воспоминаниях и записях, которые он делал во время похода, Лабом все же смог показать, как важно было для Великой армии заставить русских принять сражение, разгромить их и войти в Москву. Особенно подробно в книге были представлены действия 4-го корпуса, с приложением карты сражения, составленной на основе набросков, которые Лабом сделал накануне и после битвы. Автор не пытался дать глубокий анализ хода и результатов сражения, но страницы, ему посвященные, были проникнуты суровым трагизмом бесполезности великих жертв французской армии[22]. Работа Лабома, написанная в атмосфере поиска новых политических и нравственных ориентиров, быстро завоевала популярность. Даже Наполеон, изгнанный на о. Св. Елены, не избежал знакомства с нею. Его ближайшее окружение и он сам восприняли книгу как «очередной пасквиль». Но бывший император, тем не менее, заявил в связи с появлением книги Лабома, что факты, которые историки все же вынуждены признавать, несмотря на свои декларации, очевидны: русские сами сожгли Москву, в то время как французы выходили победителями из всех сражений[23].
В 1815 г. от имени несломленных бонапартистов выступил барон Фредерик-Франсуа Гиойом де Водонкур (1772–1845), в 1812 г. бригадный генерал, командир бригады 15-й пехотной дивизии 4-го армейского корпуса[24]. Его книга вышла в Лондоне на французском языке. Генерал, пережив все перипетии кампании 1812 г., побывав в русском плену, что сделало его убежденным русофобом, сохранил веру в величие императора и французского солдата. Пожалуй, он был первым, кто попытался представить систематизированное изложение русской кампании. Избегая скоропалительных выводов по Бородинскому сражению, Водонкур сделал попытку выяснить численность войск, их размещение, передвижения и потери. Однако ограниченность документальной базы заставила его следовать, чаще всего, за 18-м бюллетенем, внося, правда, серьезные коррективы. Так, численность русских потерь он снизил до 30 тыс., а французские потери увеличил до 20 тыс. человек. Во 2-й части своей работы генерал поместил карту сражения, правда, достаточно спорную.
Постепенно стала расширяться документальная база, необходимая для описания Бородинского сражения. В 1817 г. публикует свои мемуары главный хирург французской армии Доминик-Жан Ларрей (1766–1842), человек большого сердца и большого таланта, великий гуманист наполеоновской эпохи. Значительную часть 4-го тома воспоминаний он посвятил 1812 г. и десятка два страниц – Бородинскому сражению[25]. Не предлагая собственных оценок ходу военных действий, Ларрей, тем не менее, описал катастрофическое состояние санитарной службы Великой армии, что было обусловлено, как можно было понять, большими стратегическими просчетами наполеоновского командования. В результате изнурительной погони за русской армией ради генерального сражения французские войска оказались к его началу чрезвычайно измотанными. Ларрей сделал все возможное перед сражением для того, чтобы обеспечить раненых медицинской помощью, но ресурсы оказались просто ничтожными. Большинство раненных при Бородине солдат Великой армии так и не смогли снова встать в строй. Ларрей сопроводил 4-й том воспоминаний картой, позволявшей представить систему медицинской помощи в ходе сражения.
Почти одновременно с мемуарами главного хирурга в Париже вышли основательно отредактированные перед изданием письма интенданта Луи-Гийома Пюибюска о войне в России. Они подтверждали, что уже накануне генерального сражения Великая армия оказалась в критическом положении в связи с недостатком средств, а после сражения эта ситуация ухудшилась до катастрофической, в особенности в кавалерии[26].
В год смерти великого императора, в 1821 г., были переизданы бюллетени Великой армии; вместе с ними оказались опубликованными рапорты Мюрата, Нея, Богарне и Понятовского о битве при Москве-реке[27]. И все же большая часть материалов о походе в Россию еще хранилась в архивах. Военный министр Франции в 1821–1823 гг., маршал К.-Ф. Виктор, понимая важность обобщения опыта русской кампании, предоставил возможность полковнику маркизу Жоржу де Шамбрэ (1783–1848), участнику похода в Россию (в те дни капитану гвардейской конной артиллерии, попавшему при Березине в русский плен), работать с документами архива военного министерства. В 1823 г. вышло первое издание его замечательной работы «История экспедиции в Россию»[28]. Книга оказалась в значительной степени свободной от разного рода идеологических воздействий национального, личностного и иного характера. Тон ее был сдержанным, оценки скупы, но доказательны. Именно в таком ключе автор подошел и к описанию Бородинского сражения.
Необходимость догнать и уничтожить русскую армию заставила Наполеона решиться на уникальный, как полагал Шамбрэ, в истории современных войн стремительный марш на Москву[29]. Этот марш с неизбежностью «принял характер варварского вторжения», когда местность совершенно разорялась передовыми частями французской армии, обрекая всех остальных на голод и болезни. Перекличка 2 сентября в Гжатске, накануне генерального сражения, показала, что у Наполеона могло быть в строю не более 133 819 человек. Данные переклички, которые приводил автор, включали и тех, кто должен был присоединиться к главным силам в течение пяти дней. Но, как замечал Шамбрэ, успели подойти далеко не все[30]. Настигнув русскую армию 5 сентября, Наполеон немедленно атаковал Шевардинский редут, являвшийся, по мнению Шамбрэ, опорным пунктом левого русского фланга и мешавший французской армии развернуться. Захватив редут, император стал действовать более осторожно, опасаясь, что русские могут вновь продолжить свое отступление. Это же обстоятельство предопределило и общий план генеральной битвы. Проанализировав приказы, отданные Наполеоном 6 сентября, автор представил этот план таким образом: император, отклонив свой левый фланг, сосредоточил усилия на взятии «трех редутов», что позволило бы «столкнуть» русских до Московской дороги и отсечь им путь к отступлению; большая часть армии М. И. Кутузова должна была оказаться зажатой в угол между р. Колочью и р. Москвой[31].
Пытаясь оценить соотношение сил перед битвой, Шамбрэ отметил превосходство французской армии в тяжелой кавалерии и то, что пехота состояла в основном из опытных, закаленных солдат; у русских же, наоборот, было много новобранцев. Но французская артиллерия уступала по численности русской (587 против более 600 орудий)[32]. Результат битвы Шамбрэ оценил как недостаточно полный успех французской армии. Причины этого он видел в нерешительности Наполеона в день сражения, что, в свою очередь, объяснял досаждавшим императору насморком. Во время поворотного момента в сражении, когда русские «флеши» были взяты и надо было бросать в бой гвардию, Наполеон промедлил половину часа и упустил шанс добиться полной победы: «…запаздывание оказало огромное влияние на весь ход сражения, а затем и на судьбу Наполеона». Русские успели укрепиться впереди д. Семеновское, а рейд их кавалерии, несмотря на относительно слабый успех, задержал французскую атаку на «большой редут»[33]. В целом же Шамбрэ весьма высоко оценивал боеспособность многонациональной наполеоновской армии при Бородине, полагая это следствием «прекрасного военного устройства и методов ведения войны». Книга Шамбрэ должна была вывести французскую историческую науку в изучении Бородинского сражения на новый уровень, предполагавший опору на строгий документальный материал и сознательный уход от предвзятых оценок.
Но именно в это время в полную силу зазвучал голос бывшего узника Св. Елены, покойного императора Наполеона. В 1822 г. Гаспар Гурго (1783–1852), ординарец Наполеона в 1812 г., и Шарль-Тристан Монтолон (1783–1853), не менее известный наполеоновский генерал, бывшие с императором на Св. Елене, начали публиковать его воспоминания[34]. В 1823 г. вышли восемь томов знаменитого «Мемориала» О.-Э.-Д.-М. Лас Каза, также представлявшие собой «устные мемуары» Наполеона[35]. Великий император, находясь в заточении, как выразилась королева Гортензия, «с изощренным кокетством хорошего драматурга» «аранжировал свою жизнь, свою защиту и свою славу»[36]. Не придумывая факты, но искусно их истолковывая, Наполеон создавал легенду о себе самом, вновь включаясь тем самым «в развитие истории»[37]. Располагая по кампании 1812 г. весьма скудным документальным материалом (главным образом, комплектом бюллетеней Великой армии), Наполеон, тем не менее, понимал, что для создания достоверной легенды следовало убедительно опровергнуть заявления своих противников, которые уже касались темы 1812 г. Первым тезисом Наполеона было стремление представить поход на Россию общеевропейским делом, во многом являвшимся борьбой с «казацкой» опасностью и которое должно было завершиться в случае успеха созданием процветающей европейской системы[38]. «Если бы я вышел победителем России в 1812 г., проблема мира на сотню лет была бы решена…» – заявил он ночью 17 апреля 1821 г., накануне своей смерти, пытаясь успеть продиктовать Монтолону свои главные мысли[39]. Причину неудачи Русского похода Наполеон связал исключительно с варварством русских, сжегших свою столицу, и с морозами[40]. Дикость, соединенная с природной стихией, – вот что оказалось сильнее Наполеона, но не русская армия. И в этой связи было важно представить Бородино абсолютной победой французов и их полководца. «Разумеется, русская кампания, – рассуждал он 25 октября 1816 г., – наиболее славная, наиболее трудная и наиболее почетная для галлов из тех, о которых упоминает древняя и новая история». «Затем, – продолжает запись Лас Каз, – император отдал справедливость и великую дань, расточая похвалы нашим генералам и нашим героям, Мюрату, Нею, Понятовскому, которые стали героями дня битвы при Москве-реке, славным кирасирам, которые захватывали редуты, порубив канониров своими палашами; храбрым артиллеристам, которые с полной решимостью боролись не на жизнь, а на смерть с численно превосходившим неприятелем, и этим неустрашимым пехотинцам, которые в наиболее критический момент, вселяя в себя храбрость, кричали своему командиру: будь покоен, твои солдаты обречены сегодня победить, и они победили, и т. д., и т. д.»[41]. Год спустя Наполеон рисовал картину Бородинской битвы уже в совершенно фантастическом духе: «…я атаковал с 80 тысячами русскую армию, которая была в 250 тысяч и вооруженную до зубов, и полностью разгромил. Семьдесят тысяч русских остались на поле боя. Они [русские] имели неосторожность сказать всем, что выиграли баталию, в то время как я маршировал на Москву»[42]. Наполеон говорил о Бородинском сражении как о своей победе еще не раз – 27 января 1817 г., 19 июня 1816 г. и т. д. Правда, только однажды, 28 августа 1816 г., из его уст проскользнула фраза, выдававшая подлинную оценку Наполеоном Бородинской битвы. Битва «при Москве-реке, – заявил он, – была битвой, где проявлено наиболее доблести и достигнуты наименьшие результаты»[43]. Хотя некоторые историки, особенно русские, обратили на эту фразу позже особое внимание, но для французских читателей «Мемориала» (таких, как стендалевский Жюльен Сорель) и других канонических произведений, связанных с о. Св. Елены, это было не главным. Бородино стало яркой победой Франции, доказавшей, что французов смогло победить только варварство русских, спаливших свою столицу, и природные стихии Севера. Против этого даже гений Наполеона оказался бессилен.
Одновременно с началом публикаций «устных воспоминаний» Наполеона, в 1824 г. вышла двухтомная книга графа Филиппа-Поля де Сегюра (1780–1873) «История Наполеона и Великой армии в 1812 г.»[44]. Сын дипломата и историка, бывшего посла в Петербурге, а в годы Первой империи – обер-церемониймейстера и сенатора, Филипп-Поль не был обделен писательским даром. Если к этому добавить полную событиями жизнь (он, к примеру, попал во время «польского похода» в русский плен и был доставлен в Москву), близость к императору в 1812 г. (в чине бригадного генерала он стал главным квартирьером Главной квартиры Наполеона), а также вынужденный уход со службы после второй реставрации и неудовлетворенное честолюбие, то можно понять импульсы, толкнувшие Сегюра к созданию знаменитой книги. Этим литературно-историческим творением бывший наполеоновский генерал надеялся снискать лавры великого писателя и знатока человеческих душ, чье бессмертное полотно затмило бы славу самого Наполеона. «…Великих историков, – писал он, – рождают великие люди, и поэтому они реже встречаются, чем герои!» Но эта напыщенность, соединенная нередко с искусственной драматизацией событий, составила только одну из черт его произведения. Сегюр фактически одним из первых обратился к человеческой и психологической сторонам в разработке темы Наполеона и Бородинского сражения. «…Я думаю, – писал он, – что ничто не может считаться мелочью в этом великом гении, в этих гигантских деяниях, без которых мы не познали бы, до чего может дойти сила, слава и несчастье человека!» Сегюр попытался показать, хотя и не всегда убедительно, как мучительно принимал Наполеон решение о движении на Москву в погоне за русской армией и как быстрота этого движения приводила к расстройству войск и к столкновениям характеров и темпераментов среди французского генералитета (например, между маршалом Л.-Н. Даву и Мюратом).
Численность войск под Бородином Сегюр определял приблизительно: и с той и с другой стороны по 120 тыс. человек и примерно по 600 орудий. Размышляя о преимуществах русских войск, он отметил естественную защиту местности, «единство мундира» и единство идеи людей, защищавших свою Родину; но сказал он и о многочисленных новобранцах и ополченцах, что ослабляло русскую армию. И наоборот, пестрота мундиров Великой армии компенсировалась наличием большого числа опытных солдат. Значительно выше оценивал Сегюр и моральные качества французского солдата по сравнению с русским. О последнем он отзывался весьма высокомерно и уничижительно, полагая, что в русской армии все покоилось только на слепой, невежественной вере крепостного солдата в своего Бога и своих господ-угнетателей.
Особое внимание Сегюр заострил на самочувствии Наполеона накануне и в день сражения. Вследствие простуды и обострения мочеиспускательной болезни император проявил 7 сентября «ленивую мягкость, лишенную всякой энергии»; «все окружающие с изумлением смотрели на него». Вслед за Шамбрэ Сегюр обратился и к вопросу об отказе Наполеона послать в огонь гвардию, чтобы завершить битву полной победой. Эта тема проходила через все страницы, посвященные Бородинскому сражению. Автор отметил полную истощенность французской армии к вечеру 7-го. На следующий день «до полудня армия оставалась в бездействии или, вернее, можно было подумать, что армии больше не было, и оставался один авангард…». Количество русских пленных Сегюр полагал менее чем в 800 человек. Не поднимая вопроса о русских потерях, французские он определил цифрой около 40 тыс. В целом Сегюр попытался более или менее последовательно проследить ход великой битвы, отдавая, правда, предпочтение красочным эпизодам и предвзято расставляя акценты в угоду драматизации событий.
Не было ничего удивительного в том, что книга Сегюра встретила неоднозначную оценку у современников. Многие из тех приверженцев покойного императора, которые продолжали обожествлять его образ и не могли или не хотели приспосабливаться к новым реалиям бурбоновской Франции, отнеслись к творению Сегюра как к предательству. Особенно неистовствовал темпераментный Гурго, который немедленно написал отповедь клеветнику и уже на следующий год издал собственную книгу «Наполеон и Великая армия в России, или Критический разбор работы г-на графа Ф. де Сегюра»[45]. По мнению Гурго, Сегюр написал только эффектную мелодраму, спекулируя на потребности современного ему общества к сильным ощущениям ради кресла академика. Гурго стремился во что бы то ни стало опровергнуть все, что Сегюр написал, – и об императоре, и о событиях Бородинского сражения. Оспаривая Сегюра, Гурго не хотел упустить ни одной детали, которая, по его мнению, искажала истину. Бородинская битва, по Гурго, была не просто выиграна Наполеоном, но выиграна блестяще, следствием чего и стало занятие русской столицы французской армией. Гурго полагал, что план императора, сводившийся фактически к фронтальной атаке русских позиций, был единственно правильным, так как при попытке их глубокого обхода (тем более ночью и без проводников) Кутузов мог бы отойти и вновь избежать генерального сражения. Наполеон и накануне, и в день битвы демонстрировал кипучую энергию. Это в значительной степени и обусловило победу французского оружия. Его болезни обострились только в Можайске, но и там император продолжал интенсивно работать. Гурго решительно отверг обвинения Сегюра в том, что император отказался использовать гвардию: во-первых, Молодая гвардия была использована для сохранения поля боя, а во-вторых, ее атака могла бы и не иметь решающего результата и привела бы к расстройству главного резерва. По Гурго, невозможно было действовать при Бородине более разумно, чем действовал Наполеон.
Сегюр счел публикацию Гурго оскорбительной, своего рода обвинением в лживости. Обмен письмами между ними в конечном итоге привел к дуэли, закончившейся ранением Сегюра[46]. К этому столкновению двух бывших наполеоновских генералов на «исторической почве» участники похода в Россию отнеслись по-разному, но особого резонанса оно не произвело. Многие, зная неуживчивый характер Гурго, восприняли скептически и его книгу. Ж.-Ж.-Ж. Пеле, в 1812 г. бывший штабным полковником, к примеру, отметил, что он вообще не считает генерала Гурго «в числе историков кампании», так как «уже одно название его сочинения указывает на его свойство и цель»[47]. Интересно, что Пеле предоставлял свои материалы о кампании 1812 г. как Сегюру, который, правда, ими совершенно не воспользовался, так и Гурго. Последний взял из материалов Пеле некоторые подробности о Бородинском сражении[48].
Вместе с тем этот первый спор о Бородинском сражении, который его участники попытались столь «ненаучно» разрешить, сыграл большую роль. Он рельефно обозначил основные вопросы «бородинской темы» (результаты сражения; степень и характер влияния Наполеона как главнокомандующего на ход битвы; роль, которую сыграл отказ использовать гвардию, и др.). Как Сегюр, так и Гурго сделали известными для исторической науки и читателя целый ряд частных событий и деталей сражения.
В 1827 г. опубликовал свой труд другой участник похода, барон Агатон-Жан-Франсуа Фэн (1778–1837). В 1812 г. этот маленький ростом, удивительно исполнительный и точный человек был секретарем-архивистом личного кабинета Наполеона и поэтому мог поведать о многом. Работа его, названная «Рукопись 1812 г.»[49], в действительности была исследованием, сделанным как на основе собственных воспоминаний и сохранившихся бумаг, так и на базе опубликованных к тому времени материалов: 18-го бюллетеня, воспоминаний Наполеона, Ларрея, книг Сегюра и Гурго. Пожалуй, Фэн был первым среди французов, кто воспользовался «Военной историей кампании в России» русского полковника Д. П. Бутурлина, вышедшей впервые на французском языке в 1824 г.[50] Характерной особенностью книги Фэна, 2-й том которой начинался с событий Бородинского сражения, было стремление к максимальной фактологической точности. Автор, ссылаясь на используемые материалы, избегал того, чтобы делать собственные выводы и оценки. И все же его отношение к Бородину просматривалось. Силы сторон он оценивал как равные, в 120–130 тыс. человек, при том, что русские пользовались всеми преимуществами местности. План атаки Наполеон разработал с учетом опасности отхода русских войск в случае попытки французов обойти их позиции. Сам император был деятелен, как накануне, так и в ходе самого сражения; он «видел все, и заботился обо всем». Однако ряд инцидентов в самом начале сражения (к примеру, выход из строя многих начальников в войсках Л. Н. Даву), наряду с упорным сопротивлением неприятеля, создал для французских войск серьезные затруднения. Героическими усилиями затруднения были преодолены, сражение выиграно, хотя и с серьезными потерями (потери французов Фэн оценил в 22 тыс. человек, выбывших из строя). «Рукопись» Фэна была высоко оценена современниками (сам К.В.Л. Меттерних отзывался о нем, как о добросовестном и хорошем историке) и последующими исследователями 1812 г. Наибольшую ценность в его работе имели личные наблюдения и те коррективы, которые он попытался сделать в отношении трудов предшествовавших ему авторов.
Определенное воздействие на французскую историографию имели и мемуары Луи-Франсуа-Жозефа Боссе, префекта императорского двора, того самого, который привез Наполеону 6 сентября портрет его сына[51]. Имея возможность наблюдать за поведением императора в день сражения, Боссе мог авторитетно утверждать о недостаточном воздействии главнокомандующего на ход сражения, которое хотя и было выиграно, но с большими потерями.
Почти одновременно с Фэном и Боссе публикует свой четырехтомный труд знаменитый Антуан-Анри Жомини (1779–1869)[52]. Будучи в 1812 г. начальником исторической секции в Главном штабе Великой армии, некоторое время военным губернатором Вильно, а затем Смоленска, он не участвовал в Бородинском сражении. Однако, располагая достаточными материалами, в том числе уже вышедшими к тому времени работами, Жомини попытался обозначить место Бородинского сражения в общей стратегии Наполеона. Император, вторгаясь в Россию, не имел четко определенного плана. После неудачных попыток дать генеральное сражение у Витебска и Смоленска Наполеон, исходя во многом из политических соображений, уже не мог остановиться, не принудив русских к миру. Кроме того, «моральный дух ее [армии] и самый состав, из двадцати разноплеменных народов, требовали, чтобы я поддерживал ее деятельность наступлением…» – так передал Жомини размышления Наполеона[53]. Численность обеих армий была одинакова – от 125 до 130 тыс. с каждой стороны, но у французов было тысяч 15 старых ветеранов, между тем как у русских было такое же число ополченцев и казаков[54].
Позже, пытаясь систематизировать типы боевых порядков Наполеона, Жомини отнес замысел Бородинского сражения к так называемому «штурмовому порядку с колоннами одновременно в центре и на одном из крыльев». По его мнению, «атака в центр со вспомогательной атакой крыла, обходящего неприятеля, мешает последнему… обрушиться на фланг атакующего. Неприятельское крыло, сжатое между атакующим центром и крылом противной стороны, которому приходится, таким образом, сражаться почти со всей наступающей массой, по всей вероятности, будет подавлено и разгромлено»[55]. Что касается предложения Даву обойти русских крупными силами, то оно было неприемлемо, так как «русские могли отойти». Однако с самого начала сражения случилась целая цепь частных сбоев в реализации плана (от задержки войск Даву и Нея по овладению «флешами», досадного запаздывания с переброской корпуса Жюно в стык между частями Даву и Понятовского, до отсутствия скоординированности хода атаки дивизией Морана «большого редута» с развитием событий на южном фланге). Свою лепту в срыв плана внесла и атака русской кавалерией северного крыла[56]. Удар гвардией, как писал Жомини от имени Наполеона, мог бы «быть очень выгоден, но отказ мой нельзя считать ошибкою. Неприятель показал еще довольно твердости». Остановившись на вопросе о болезни императора в день сражения, Жомини отверг утверждение о ее заметной роли на исход битвы. Причина осторожности Наполеона была в другом: «Победа, как бы она ни была несовершенна, – говорил Жомини устами Наполеона, – должна была отворить мне врата Москвы. Как только мы овладели позициею левого фланга, я был уже уверен, что неприятель оставит поле сражения в продолжение ночи. Для чего же было добровольно подвергаться опасным последствиям новой Полтавы?»[57]. Общие потери обеих сторон автор оценивал в 80 тыс. В целом, испытав на себе некоторое влияние появлявшейся русской историографии, Жомини усилил традицию «жесткого реализма», существовавшую со времени Шамбрэ во французской историографии.
В близком ключе была написана и обширная статья генерала Жана-Жака-Жермена Пеле-Клозо (1777–1858), в 1812 г. штабного полковника, состоявшего при штабе помощника начальника Главного штаба по пехоте генерал-адъютанта Ж. Мутона, графа Лобо[58]. Пожалуй, это было наиболее взвешенное, глубокое и убедительное описание «сражения при Москве-реке», вышедшее из-под пера участника великой битвы. Пеле не просто был очевидцем многих эпизодов сражения, но и имел прямое отношение к работе Главного штаба и передвижениям французских войск. Еще в ходе кампании он успел составить точный журнал событий при Бородине, который, к несчастью, потерял под Красным, но в начале 1813 г. по памяти его вновь восстановил.
Наполеон, ставя своею целью разбить русскую армию в генеральном сражении и двигаясь к Москве, вынудил тем самым русских принять баталию. Силы французской и русской армий Пеле оценивал как, в целом, равные, но внутреннее состояние французских войск ставил заметно выше противника. Французские войска, по словам автора, отличались инициативностью, храбростью и превосходной организацией, в то время как русский солдат, хотя и стойкий, и сражавшийся за свою Родину, характеризовался «храбростью бездейственной» и «страдальческим повиновением». Во время Шевардинского боя Наполеон, как считал Пеле, был введен в заблуждение неточными картами и не понял «странного расположения» русской армии, думая, что войска генерала А. И. Горчакова, составлявшие шевардинскую группировку, только прикрывали арьергард генерала П. П. Коновницына. Если бы император имел возможность понять истинное предназначение Шевардинского редута как опоры русского левого фланга, полагал автор, то это имело бы для русских «гибельные последствия»[59].
Подробно описав поле сражения, Пеле пришел к выводу, что Наполеон не имел возможности понять назначение правого русского фланга, располагавшегося севернее Московской дороги, и счел, что дает «почти фронтальное сражение» армии М. И. Кутузова. Пеле, в целом согласившись с мнением Шамбрэ о сути наполеоновского плана сражения, отметил, что французские войска действовали против русских «концентрически», не распыляя при своем продвижении наступающие колонны и артиллерию, а, наоборот, сближая их друг с другом, как бы усиливая свой фронт и нанося большой урон неприятелю. Автор приложил к тексту неплохую карту, обозначив на ней главную директрису движения французской армии и линию (или фронт) сражения по отношению к главной коммуникационной линии – Большой Московской дороге. Карта наглядно демонстрировала главные преимущества в развертывании французских войск и недостатки в расположении русских. Пеле считал, что отнюдь не искусство главнокомандующего Кутузова, а самоотверженность русских генералов и «непоколебимая храбрость солдат спасли Россию».
Подробно осветив ход боя за Семеновские высоты, автор попытался понять, почему героические усилия Даву и Нея не завершились окончательным успехом. Не возлагая ни на кого из французского командования персональной ответственности за это (за исключением Понятовского, да и то косвенным образом), Пеле показал обусловленность патовой ситуации объективными обстоятельствами, проистекавшими из сложности руководства боем и из случайных моментов[60]. Блестящий захват батареи Раевского – центра русских позиций, на который после падения Семеновских укреплений опирался левый фланг неприятеля, также не привел к полной победе: оставались горкинские укрепления, обеспечившие отход русской армии. Наполеон, как признал Пеле, «был не очень доволен следствиями сражения». Пленных почти не было. Французская армия «была утомлена таким продолжительным и упорным сражением». Ссылаясь на Ларрея, Пеле предположил французские потери в 21–22 тыс. человек, а русские (вслед за Д. П. Бутурлиным) в 50 тыс.[61] Основную вину за проигранное русской армией сражение автор возложил на Кутузова. Действия Наполеона, хотя и не лишенные ошибок, он оценил достаточно высоко, в том числе и решение не посылать гвардию в огонь. Текст статьи Пеле сопроводил великолепными приложениями, состоявшими из приказов на сражение, карты и данных переклички французской армии на 2 сентября.
Приближались 30-е годы XIX века. Заканчивалась эпоха Реставрации, столь много давшая для развития исторической мысли. Тема русской кампании пока еще не привлекла внимание великих историков того времени – О. Тьерри, Ф. Гизо, Ф.-О. Минье и Л.-А. Тьера. Минье и Тьер обратятся к ней позже. Пока же события наполеоновских походов только становились историей, и дискутировали о Бородинском сражении главным образом его непосредственные участники. Нередко в зависимости от того, как именно сложилась их судьба в годы Реставрации, они фактически разделились на две группы: последовательных критиков Наполеона и его апологетов. Единственным исключением, пожалуй, можно считать Шамбрэ, работа которого имела целью решение прикладной задачи: извлечь практические выводы для Военного министерства.
В конце 20-х – начале 30-х гг. XIX в. стали уходить из жизни многие ветераны Наполеоновских войн, свидетели и участники кампании 1812 г. В 1830 г. умер маршал Л. Гувион Сен-Сир (1764–1830), находившийся с 1819 г. в отставке и занимавшийся вплоть до своей смерти сельским хозяйством и написанием мемуаров. Вышедшие в 1831 г. его воспоминания[62], казалось, не могли внести чего-то нового в изучение Бородинского сражения, тем более что, сражаясь у Полоцка, он не был участником великой битвы. Однако суждения покойного маршала оказались не лишенными интереса. Имея огромный военный опыт и анализируя материалы о Бородинской битве, он пришел к однозначному выводу, «что под Можайском во французских атаках не было точности и в особенности связи, что могло сообщить им только деятельное участие главнокомандующего». Хотя русские отступили, «но они не были разбиты». Потери русской армии «почти вознаграждались потерями Наполеона; и на стороне русских было то огромное преимущество, что беспрестанно получаемые ими подкрепления должны были вскоре изгладить следы их [потерь], между тем пустота, открывшаяся в наших рядах, не пополнялась». Сен-Сир пришел к мнению, что единственным способом разбить русскую армию при Бородине, а тем самым и вынудить Александра I к миру, было введение в бой гвардии, чего Наполеон сделать так и не решился.
Через 11 лет после смерти Армана-Огюстена-Луи де Коленкура, герцога Виченцкого (1773–1827), обер-шталмейстера императора во время Русского похода, вышли его воспоминания[63]. Как и можно было предполагать, воспоминания Коленкура не только сделали известными многие детали Бородинской битвы, но и вообще вышли за рамки собственно воспоминаний, став своего рода исследованием о событиях 1812 г. По уверению Коленкура, Наполеон был убежден, что его продвижение к Москве с неизбежностью заставит русскую армию принять сражение. Император полагал, что в своем стремлении «угодить дворянству» новый русский главнокомандующий Кутузов будет вынужден принять бой, проиграет его, а это, в свою очередь, даст возможность Александру I пойти на мирные переговоры с Наполеоном, «избежав упреков и порицаний со стороны русских вельмож». Опасаясь отхода русской армии, император решился на фронтальный бой, что обусловило нерешительные результаты сражения. Особую роль в этом сыграл отказ от использования гвардии, что, впрочем, Коленкур и не осуждал, и не одобрял. «Эти успехи без пленных, без трофеев, – писал Коленкур об императоре, – не удовлетворяли его». Говоря о катастрофическом состоянии французской армии после сражения, Коленкур дал понять, что Наполеон не достиг своей цели и что взятие Москвы без разгрома русской армии было обесценено. Особое внимание при описании Бородинского сражения Коленкур конечно же уделил героической смерти своего брата Огюста-Жана-Габриэля, дивизионного генерала и коменданта Главной квартиры императора, овладевшего, по мнению автора, Курганной высотой.
В 1839 г. были опубликованы воспоминания Матье Дюма (1753–1837), генерал-интенданта Великой армии, в которых автор еще раз подтверждал отсутствие обычной активности у императора в день сражения; несмотря на очевидную необходимость перемен в первоначальной диспозиции в ходе боя, Наполеон этого так и не сделал[64].
В 1842 г. увидели свет воспоминания бывшего субинспектора смотров в кабинете начальника Главного штаба Великой армии барона Пьера-Поля Деннье (1781–1848)[65]. Его свидетельства и размышления о Бородинской битве, но особенно цифры потерь, которые он приводил, сыграли заметную роль в зарубежной историографии великого сражения. Не претендуя на глубокий анализ хода сражения, Деннье остановился на поведении Наполеона в те дни, отметив его кипучую деятельность 5 и 6 сентября: «Он видел все, он предвидел все, он был всюду как в самые прекрасные дни своей славы». Однако 7 сентября Наполеон с раннего утра страдал от сильной головной боли, и его влияние на ход битвы оказалось более скромным, чем ожидалось. Численность русских войск Деннье оценивал в 162 тыс. человек, а французских – не более чем в 140 тыс. Деннье был первым, кто во французской историографии попытался не произвольно, но на основе документальных материалов оценить потери Великой армии. Он привел цифры рапорта, сделанного им на основе данных начальников корпусных штабов в Москве и представленного начальнику Главного штаба маршалу Бертье (вероятно, 21 сентября): 49 выбывших из строя генералов (из них 10 убитыми), 37 выбывших из строя полковников (10 убитыми), 6547 офицеров, унтер-офицеров и солдат убитыми и 21 453 ранеными. Бертье, получив эти цифры, приказал Деннье держать их в секрете[66]. Одновременно Деннье представил Бертье список убитых и раненых 5 и 7 сентября 1812 г. генералов и полковников[67], который, как нам совершенно очевидно, был недостаточно точным. Так, дивизионный генерал Л.-П.-Э. Шастель, командир 3-й дивизии легкой кавалерии, который фигурирует среди убитых, не был даже ранен, значившийся в списке бригадный генерал 1-й дивизии 1-го пехотного корпуса П.-Г. Грасьен был ранен не под Москвой, а под Смоленском, полковник 12-го линейного полка 3-й дивизии того же корпуса Ж.-М. Тулуз был смертельно ранен еще под Валутиной горой и т. д. Это заставляет нас признать данные Деннье недостаточно точными и нуждающимися в проверке.
Деннье представил также интересные цифры из рапорта командующего артиллерией дивизионного генерала Ж.-А. Бастона де Ларибуазьера: в день 7 сентября было выпущено 60 тыс. снарядов и истрачено 1 млн 400 тыс. ружейных зарядов[68]. Русские потери Деннье оценивал в 50 тыс. человек.
На фоне той литературы о Наполеоне, которая выходила во Франции в 40-е гг. XIX в., книга Деннье выглядела явным исключением из правил. Еще с конца 30-х гг. июльская монархия, готовясь к переносу праха Наполеона во Францию, стала активно пропагандировать культ покойного императора. Огромными тиражами выходили воспоминания Наполеона, мемуары о нем и его времени. Французские беллетристы рьяно взялись писать книги о Наполеоне. К примеру, Александр Дюма, издавший в 1840 г. биографию императора, посвятил в ней немало страниц описанию Бородинского сражения[69]. Картина получилась явно компилятивной (были использованы 18-й бюллетень, работы Гурго, Сегюра, Жомини, воспоминания генерала Ж. Раппа), но еще раз упрочившей в представлении французов расхожие сюжеты о «смертоносном редуте», подвиге Коленкура и пр.[70]
Как правило, литература тех лет о Наполеоне сопровождалась многочисленными иллюстрациями, нередко талантливо исполненными (скажем, Ж.Л.И. Беланже или О. С. Шарлем), но неизменно рассчитанными на широкую публику и создававшими сказочно-зримый для народа облик эпохи Первой империи. В потоке этой литературы Бородинское сражение почти неизменно описывалось в духе наполеоновской легенды. В качестве характерного примера исторических работ, явно подпавших под влияние этой «наполеоновской волны», упомянем книгу Эмиля-Марко де Сент-Илера, бывшего пажа при императорском дворе, второй том которой повествовал о Бородинском сражении[71]. Отсутствие критического анализа событий, слабое введение в научный оборот новых источников и односторонний отбор прежних были ее характерными чертами. Начавшая выходить в 1845 г. многотомная «История Консульства и Империи» Луи-Адольфа Тьера (1797–1877) первоначально также укладывалась в рамки раздуваемого культа императора.
Диссонансом среди книг, вышедших из-под пера профессиональных историков, звучали работы Жюля Мишле, полагавшего время Консульства и Империи «маленькой историей». Позже Мишле, остановившись на Бородинской битве, напишет, что Наполеон, так долго желавший сражения, выказал себя перед Москвой колеблющимся и нерешительным. «Победа его была неполная, он очень мало воспользовался ею, не преследовал ослабленных русских, как того хотели Мюрат и другие»[72].
Наступившие 1850-е годы, а вместе с ними и эпоха Второй империи еще более усилили интерес к Наполеоновским войнам и русской кампании. В 1853 г. выходит работа Ф. Шапюи, а в 1855 г. – генерала Пьера Бертезена (1775–1847)[73]. Если работа первого автора была достаточно беглой, то труд второго оказался не лишенным интереса. Работа Бертезена, опубликованная его сыном, представляла воспоминания по названию и историческое исследование по существу. Опираясь на опубликованные материалы, используя документы и карты военного депо и, конечно, свой опыт (в 1812 г. он был бригадным генералом в дивизии Молодой гвардии А.-Ф. Делаборда; он не участвовал в Бородинском сражении, но хорошо мог представить, что произошло во время боя), Бертезен попытался показать общую картину битвы. Наиболее интересными были его рассуждения о потерях французской армии. Он полагал их равными примерно 22 600 человек, так как, исходя из собственного опыта, знал, что командиры частей, не желая подавать рапорты о солдатах, которые по тем или иным причинам оказались вне полков, нередко указывали потери бóльшими, чем они были в действительности. Автор считал, что в Москве армию догнали примерно 4–5 тыс. солдат, внесенных в рапорты как выбывшие из строя[74].
В 1856 г. вышел 14-й том «Истории Консульства и Империи» Тьера, посвященный русской кампании[75]. Хотя труд Тьера и носил характер «официальной» истории, но не был лишен и критических элементов. Многие деятели и писатели Второй империи, «не смея нападать на третьего Наполеона, старались дискредитировать первого»[76]. Наиболее последовательным в этом отношении оказался П. Ланфрэ в «Истории Наполеона I»[77]. Тьер, с одной стороны, давал отпор этим нападкам, но, с другой стороны, не мог их не учитывать. Хотя работа Тьера была издана фактически, без каких-либо ссылок на источники, было очевидным, что автор основательно с ними познакомился, в том числе и с рядом неопубликованных документов. Однако сильная сторона книги была до известной степени обесценена слишком вольной интерпретацией событий в угоду яркости изложения и остросюжетности. Более того, Тьер не затруднял себя сопоставлением и проверкой фактов, однозначно решая вопрос выбора в пользу занимательности. Говоря о подготовке Наполеона к генеральному сражению, Тьер целиком опирался на выводы своих предшественников (Шамбрэ и др.), соглашаясь с ними и высоко оценивая план императора. Численность сил он определял в 127 тыс. у французов, «одушевленных верой и необыкновенным жаром», и в 140 тыс. у русских, включая 20 тыс. иррегулярных войск[78]. Само сражение Тьер постарался описать подробно, однако при этом почти не пытаясь анализировать его ход. Следуя за многими предшественниками, он сетовал на слабую активность Наполеона в день сражения из-за простуды и на отказ последнего от решительного использования гвардии. Впрочем, это решение императора, который во что бы то ни стало хотел сохранить последний резерв в 8 сотнях лье от Франции, Тьер воспринял как свидетельство ошибочности самого Русского похода. Результаты битвы автор оценил как победу, но «не абсолютно полную»; потери – в 20–21 тыс. выбывших из строя у французов (из них 9 –10 тыс. убитыми) и 60 тыс. у русских[79]. Пожалуй, единственным по-настоящему новым моментом в работе Тьера была попытка возложить часть ответственности за ограниченный успех сражения на Богарне, который в нужный момент не проявил «горячей активности» и не поддержал генерала Ш.-О. Бонами, захватившего Курганную высоту.
Последний тезис почти немедленно был оспорен в работе А. Дю Касса, опубликовавшего корреспонденцию Богарне и снабдившего ее своими собственными комментариями[80]. Дю Касс пытался защитить Богарне от нападок Тьера, указывая на то, что принцу Евгению пришлось действовать в изоляции от основной армии, испытывая сильнейшее давление русских, в том числе кавалерии Ф. П. Уварова и М. И. Платова. В целом действия вице-короля Италии автор оценивал высоко. Что же касалось опубликованных Дю Кассом документов, то они представляли собой в основном письма от Бертье к принцу Евгению накануне и сразу после сражения и не повлияли на прежние представления исследователей о битве.
Наиболее последовательным ответом на критику Русского похода Наполеона стала в те годы публикация корреспонденции императора. 23-й и 24-й тома, посвященные кампании 1812 г., вышли в 1868 г.[81] Составителям этого издания, трудившимся над ним по распоряжению Наполеона III, удалось поместить материалы, проливавшие некоторый свет на место генерального сражения в общем стратегическом замысле императора и освещавшие деятельную и многостороннюю подготовку к битве. Документы в целом подтверждали версию о стремлении Наполеона уничтожить русскую армию в генеральном сражении. В итоге, нагнав русскую армию только у Москвы, Наполеон, однако, не исключал и неблагоприятного для себя исхода сражения. Эта мудрая предусмотрительность, возможно, и повлияла на отказ от использования значительной части гвардии в ходе генеральной баталии. Непосредственно по Бородинскому сражению в «Корреспонденции» Наполеона было помещено только два документа (общая диспозиция и воззвание), которые уже были известны исследователям.
Среди литературы, выходившей в годы Второй империи и затрагивавшей русскую кампанию 1812 г., большой интерес представляли воспоминания Пьера Пельпора, полковника, командира 18-го линейного полка 3-го корпуса Нея[82]. Как и многие его предшественники, Пельпор в мемуарах предпринял попытку исторического исследования войны 1812 г., обратившись к ранее вышедшим работам (Шамбрэ, Фэна, Сегюра и др.). Не скрывая доли презрения к «темным и суеверным московитам», Пельпор, тем не менее, повествуя о почти полном истощении 3-го армейского корпуса к концу сражения, отдал должное их стойкости. Он особо остановился на отказе от использования гвардии, полностью оправдывая это решение и подчеркивая, что даже такие соперники, как Сегюр и Гурго, были вынуждены разделить мысль о рискованности для французов остаться без последнего резерва. Было довольно и того, подчеркивал Пельпор, что Молодая гвардия охраняла захваченное поле битвы, а гвардейская артиллерия вела огонь. В целом же победа, «столь дорого купленная, была нерешительной; она нас огорчила!» – восклицал автор. Французские потери он давал по Деннье (примерно 28 тыс.), русские оценивал в 50 тыс.[83]
Те же цифры (и тоже явно по Деннье) называл Раймон Эмери-Филипп-Жозеф де Монтескье, герцог (в 1812 г. барон) Фезенсак (1784–1867), служивший в чине начальника эскадрона у Бертье, а после Бородина ставший командиром 4-го линейного полка 3-го корпуса Нея. В 1863 г. он, пользуясь интересом публики к истории Первой империи, выпустил полный вариант своих воспоминаний[84]. Бородинское сражение было описано Фезенсаком на основе компиляции материалов предшественников. Однако совершенно новой и неожиданной была оценка им состояния французской армии после боя. Приняв 12 сентября 4-й линейный полк, Фезенсак, ранее наблюдавший армию только из штаба, обнаружил истинное положение дел. «С первого дня я был поражен вымотанностью войск и их малой численностью. В штабах ценили только результаты, не думая, чего они стоили, и они [штабные] реально не знали состояния армии; но приняв командование полком, я… узнал истинную степень несчастья»; «никогда еще мы не несли столь тяжкие потери; никогда еще моральное состояние армии не было столь поколеблено». Войско походило на армию, «потерпевшую поражение, это было тем более странно после решительного боя, победа в котором открыла для нас ворота Москвы»[85]. Впрочем, оценки Фезенсака, которые он подтверждал цифрами по своему полку и 25-й пехотной дивизии, не привлекли особого внимания французских исследователей.
Полезной в плане уточнения деталей хода Бородинского сражения оказалась биография генерала Луи Фриана, написанная и изданная в 1857 г. его сыном, также участником сражения, Жаном-Франсуа (1790–1867), бывшим в 1812 г. капитаном и адъютантом отца. Особый интерес вызывали те страницы, которые были посвящены борьбе за д. Семеновское[86]. В целом в годы Второй империи, несмотря на заметную идеализацию императора и Великой армии в Бородинском сражении, французская историография смогла несколько расширить круг используемых источников и подтвердила тезис о нерешительных результатах Бородинского сражения.
Несмотря на сокрушительное поражение Франции в войне с Пруссией в 1870–1871 гг. и крах Второй империи, французы в конце XIX в. сохраняли стойкий интерес к наполеоновской тематике и войне 1812 г. Но интерес этот приобрел новые черты.
Во-первых, начался массовый выход в свет материалов малоизвестных участников событий офицерского и даже сержантского состава. Были опубликованы воспоминания капитана Ж.-М.-Ф. Жиро де л’Эна (1789–1874), адъютанта генерала Ж.-М. Дессэ, добавившие много интересного к представлениям о действиях 1-го армейского корпуса; переведены на французский язык мемуары Генриха фон Брандта (1789–1868), капитана 2-го пехотного полка Легиона Вислы, поведавшие об участии Молодой гвардии в бою за батарею Раевского. Изданы мемуары Антуана-Огюстена-Флавьена Пион де Лоша (1770–1819), капитана гвардейской пешей артиллерии, повествовавшие об участии гвардейской артиллерии в сражении 7 сентября; воспоминания Даниэля-Жан-Жака-Виктора Дюпюи (1777–1857), капитана 7-го гусарского полка, адъютанта бригадного генерала Ш.-К. Жакино, командира 3-й легкой кавалерийской бригады 1-го кавалерийского корпуса, и старшего вахмистра 2-го кирасирского полка того же корпуса О. Тириона (1787–1869), добавившие новые сведения о 1-м кавалерийском корпусе Э.-М.-А. Нансути. Опубликованы воспоминания Жана-Франсуа Булара (1776–1843), майора гвардейской артиллерии, наблюдавшего Бородинское сражение с позиций, расположенных недалеко от командного пункта Наполеона; мемуары полковника Жана-Теодора-Жозефа Серюзье (1769–1825), начальника артиллерии 2-го кавалерийского корпуса, отличавшиеся бравурно-задиристым стилем и гиперболизацией его, Серюзье, участия в сражении, но, тем не менее, оказавшиеся чрезвычайно полезными; цельное повествование о действиях 1-го и 2-го карабинерных полков, принимавших участие в кавалерийском сражении к востоку от батареи Раевского, составленное на основе воспоминаний многих офицеров; мемуары майора Клода-Франсуа-Мадлена Ле Руа (1767–1851), состоявшего в начале сражения при штабе Даву, а затем заменившего выбывшего из строя второго майора 85-го линейного полка (имея реальное представление о состоянии французской пехоты после боя, он нарисовал удручающую картину измотанной потерями Великой армии). Журнал капитана Экпри-Виктора-Элизабет-Бонифация Кастеллана, адъютанта генерал-адъютанта Л. Нарбонна, оказался интересен во многих отношениях; журнал капитана Луи-Фларимона Фантена дез Одоарда (1778–1866), капитана 2-го полка гвардейских пеших гренадеров, добавил материал о настроениях солдат императорской гвардии; воспоминания лейтенанта Николя-Луи Плана де ла Фэ, адъютанта командующего артиллерией генерала Ларибуазьера, продиктованные еще в 1835 г., но долгое время не публиковавшиеся, дали некоторые сведения о действиях французской артиллерии; в мемуарах сержанта-велита полка фузелеров-гренадеров гвардии Адриена-Жана-Батиста-Франсуа Бургоня (1785–1867) и воспоминаниях Луи-Жозефа Вьонне де Марингоне (1769–1834), начальника батальона того же полка, были переданы настроения офицеров Молодой гвардии; в мемуарах Обэна Дютейе де Ламота (1791–1851), су-лейтенанта 57-го линейного полка дивизии Компана корпуса Даву, уточнены детали участия 5-й пехотной дивизии в Бородинском сражении. Воспоминания Александра Бело де Кергора (1784–1840), военного комиссара 2-го класса, представляли взгляд интендантского чиновника на битву; были не лишены интереса и мемуары Клода-Франсуа Меневаля (1778–1850), секретаря портфеля в кабинете Наполеона, в которых затрагивался вопрос о здоровье и деятельности главнокомандующего французской армией накануне, в день и после Бородина[87].
Прежний интерес, сосредоточенный почти исключительно на гигантской фигуре Наполеона и фигурах видных военачальников, начал постепенно сменяться вниманием к простым офицерам и солдатам. Выход в конце XIX в. многочисленных полковых историй[88], которые чаще всего основывались на общеизвестных опубликованных материалах, был отражением той же тенденции. Французы, как нация, которую постигла трагедия, искали духовную опору в своей великой истории, причем в истории не только великих полководцев и больших политиков, но и всего народа. Память о сражении при Москве-реке теперь оказалась, с одной стороны, «оплодотворена» образами простых офицеров и солдат Франции, наполнена человеческой теплотой и стала более близкой и подлинно национальной, но, с другой стороны, не могла не избежать еще большей мифологизации. Вообще, французские историки на протяжении тридцати последних лет XIX в., несмотря на появление новых материалов, даже не попытались сформировать, хотя бы частично, обновленный взгляд на сражение при Москве-реке. Из собственно исторических работ можно упомянуть только биографию генерала Ж.-М. Дессэ, написанную Жозефом Дессэ и Андре Фолье, где на основе воспоминаний Жиро де л’Эна уточнялась роль 4-й пехотной дивизии в сражении, и две книги П. Боппа об участии в битве полка Жозефа-Наполеона и 1-го хорватского полка[89].
Во-вторых, французская историография Бородина стала утрачивать свою антирусскую, «антиварварскую» заостренность. Для Франции начался поиск стратегического союзника, которым в те годы могла стать только Россия. Новая международная ситуация заставляла французов подвергнуть образы своей исторической памяти заметной корректировке. Особенно показательными в этой связи стали работы Альфреда-Николя Рамбо (1842–1905), известнейшего специалиста по русской истории, преподававшего тогда в Нанси, и профессора Леоне Пинго из Безансона[90]. Рамбо попытался понять динамику французско-русских отношений, показав как противоречия, ведущие к долговременной ожесточенности, так и факторы, сближающие оба народа. Подчеркнув, что французский дух определенно является частью духовной русской жизни (особенно в среде средних и высших слоев), автор указал на такую общую их черту, как стремление к созданию легенд о своем прошлом[91]. Стремясь лучше понять суть ощущений обоих народов в 1812 г., Рамбо не преминул посетить Бородинское поле. При этом, повествуя о надписях, выбитых на бородинских памятниках, которые были призваны увековечить русские мифы, автор счел своим долгом их опровергнуть, особенно те, которые касались количества потерь сторон. Реальные потери составили, по его мнению, 28–30 тыс. бойцов Великой армии и до 58 тыс. у русских[92]. Вместе с тем, не находя сил бороться с образами своей памяти, Рамбо воспроизвел все те сюжеты и легенды, которые в представлении француза были неизменно связаны с Бородином (героическую гибель О.-Ж.-Г. Коленкура, великолепную храбрость И. Мюрата и пр.). В похожем ключе была выдержана и книга Пинго. Бородино, по его мнению, должно было стать не только символом противоречий и борьбы двух народов, но и той частью истории, которая их сближает.
Завершался XIX в. выходом в свет солидного труда известного статиста французской армии Аристида Мартиньена, собравшего исключительные сведения о потерях среди офицерского состава наполеоновской армии в 1805–1815 гг.[93] Распределив потери по дням сражений и по полкам, Мартиньен дал возможность представить интенсивность ведения боевых действий каждой частью в ходе Бородинского сражения. Несмотря на бесспорную ценность этих сведений, труд Мартиньена все же не повлиял на разрешение вопроса о том, каковы были точные потери французских войск 5–7 сентября 1812 г. Французские исследователи, к удивлению, весьма редко обращались к этим бесценным материалам.
Заметный интерес во Франции к русской кампании сохранялся вплоть до Первой мировой войны. Этот интерес проявлялся не только со стороны писателей и историков, но и со стороны военных кругов. Примером тому служило издание пяти массивных томов документов, осуществленное военным архивистом лейтенантом 101-го полка Жозефом-Габриэлем-Андре Фабри в 1900–1903 гг.[94] Эти материалы должны были стать полезными при анализе проведения крупных стратегических операций. Правда, документов, касавшихся непосредственно Бородинского сражения, там оказалось немного. Документальная база продолжала расширяться и за счет других документальных публикаций, осуществленных в начале ХХ в. генералом Дерекагэ[95], историком Артюром Шюке[96], потомком генерала Ж.-Д. Компана А. Терно-Компаном[97] и др.
Но еще более мощным потоком стали выходить в свет воспоминания, дневники и письма французских участников событий. Они выходили один за другим: в 1900 г. были изданы мемуары Антуана-Бодуэна-Жибера ван Дедема ван дер Гельдера (1774–1825), командира бригады 2-й пехотной дивизии Фриана 1-го армейского корпуса, поведавшего много интересного об участии 33-го линейного полка и всей дивизии в Бородинском сражении; через год – воспоминания лейтенанта Юбера-Франсуа Био (1778–1842), адъютанта кавалерийского генерала К.-П. Пажоля; через три года – полный текст журнала Шарля Франсуа (1777–1853), прозванного «Дромадером Египта» за его приключения на Востоке (он не только сражался под Пирамидами, но и испытал участь турецкого раба), в 1812 г. капитана 1-го батальона 30-го линейного полка 1-й пехотной дивизии, штурмовавшей батарею Раевского. В 1906 г. увидели свет мемуары генерала Шарля-Антуана-Николя д’Антуара де Врэнкура, командовавшего артиллерией 4-го армейского корпуса, которая обстреливала батарею Раевского; в 1909 г. – мемуары Венсана Бертрана (1785–1864), сержанта-карабинера 7-го легкого полка дивизии Э.-М. Жерара, также боровшейся за Курганную высоту; затем – воспоминания Шарля-Пьера-Любена Гриуа (1772–1839), полковника, начальника артиллерии 3-го кавалерийского корпуса, и Ж.-Л. Хенкенса (1780–1855), исполнявшего обязанности полкового адъютанта 6-го полка конных егерей того же корпуса и уточнявшего детали действий войск Богарне. В 1911 и 1912 гг. журнал «Карнэ де ла сабреташ (Carnet de la sabretache)» опубликовал воспоминания бригадного генерала Ф.-А. Теста, командира 2-й бригады 5-й пехотной дивизии, и журнал капитана Г. Бонне из 18-го линейного полка дивизии Ж.-Н. Разу, повествовавшие о бое за Багратионовы «флеши». В 1912 г. Лионне осуществил французское издание дневника младшего лейтенанта Чезаре Ложье де Белькура (1789–1871), старшего адъютанта полка королевских велитов итальянской гвардии, красочно изобразившего действия 4-го армейского корпуса на северном фланге и в центре Бородинского поля; через год Эжен Татэ опубликовал журнал Луи-Вивана Ланьо (1781–1868), старшего хирурга 3-го полка пеших гренадеров императорской гвардии, добавившего новые детали к картине Бородинской битвы. В том же году крупнейший русский архивист С. М. Горяинов при участии французских историков публикует в Париже значительную часть трофейных писем чинов Великой армии 1812 г. Наконец, в год начала Первой мировой войны вышли мемуары Луи Бро (1781–1844), капитана 5-го эскадрона конных егерей гвардии[98]. Как и ранее, поразительным было то, что, несмотря на такой объем ставших доступными источников, французская историческая наука даже не попыталась этим воспользоваться. В начале ХХ в. не было опубликовано ни одной работы, которая обращалась бы к теме Бородинского сражения. Публикации документальных материалов только подпитывали уже устоявшиеся национальные мифы.
После Первой мировой войны интерес со стороны французских исследователей, а фактически и со стороны общественности к тематике 1812 г. заметно иссяк. Только после Второй мировой войны, с появлением темы «атлантической солидарности», история русской кампании вновь стала обсуждаться. В 1949 г. публикует свой 12-й том «Истории Консульства и Империи», освещавший Русский поход, Луи Мадлен[99]. На основе традиционной еще для середины XIX в. документальной базы он решительно оценил Бородинское сражение как полную победу французской армии[100]. Главной причиной поражения кампании в целом он считал пожар Москвы. В еще более бонапартистском духе представил события 1812 г. А. Фюжье, объяснив провал похода пространством, климатом, неистощимыми человеческими ресурсами России и «варварскими» обычаями русских. Бородино, как и другие сражения 1812 г., сыграли, по его мнению, незначительную роль. При этом, рассматривая борьбу Наполеона с Россией через призму враждебности интересов России и Западной Европы, он устанавливал явные параллели с ситуацией 40 –50-х гг. ХХ в.[101]
К началу 1960-х гг. отношение французских историков к войне 1812 г. заметно меняется. Президент Ш. де Голль говорит о Наполеоне как о «сверхчеловеческом гении», объединившем французскую нацию[102]. Национальный, но не общемировой контекст политики Наполеона становится теперь сферой главных интересов французской общественности. При этом образ России постепенно теряет свои зловещие черты, характерные для традиционной наполеоновской легенды. В этой связи особый интерес представляла книга Константина де Грюнвальда, специалиста по русской истории, «Русская кампания. 1812»[103]. Автор создал калейдоскопическую картину Бородинского сражения, основанную на отрывках из воспоминаний и работ участников событий, сопроводив их собственными комментариями. Привлечение ряда материалов, а именно воспоминаний некоторых русских и немецких участников сражения (К. Ф. Толя, полковника и генерал-квартирмейстера 1-й Западной армии, В. Г. Левенштерна, старшего адъютанта М. Б. Барклая де Толли, К. Клаузевица, подполковника, исполнявшего должность обер-квартирмейстера 1-го кавалерийского корпуса, лейтенанта саксонского шеволежерского полка «принц Альбрехт» В. Л. Ляйсниха и др.), было совершенно необычным для французской историографии, которая основывалась ранее почти исключительно на источниках, исходивших от французской стороны. Несмотря на это, картина сражения оказалась мозаичной, а работа слишком поверхностной.
Своего рода вершиной, впрочем, тоже относительной, стала книга барона Жана Тири, корреспондента Института Наполеона, потомка бригадного генерала Н.-М. Тири, командира 1-й бригады 6-й тяжелой кавалерийской дивизии 3-го кавалерийского корпуса, получившего рану при Бородине[104]. Тири попытался опереться в своей работе на наиболее достоверные документы: переписку Наполеона, книги Фэна, Коленкура, Деннье, Кастеллана и др. В поисках ранее неизвестных материалов Тири обратился к неопубликованным бумагам генералов Теста, Тири, бумагам А. Коленкура, которые, однако, только подтверждали то, что было известно и ранее из опубликованных документов тех же самых участников сражения. Уделив значительное внимание деталям в период подготовки и в ходе Бородинской битвы, автор, тем не менее, подошел к ним поверхностно, некритически воспринимая источники и не прибегая к их перекрестной проверке. Описание Бородинского сражения, сделанное им, оказалось полно неточностями и сомнительными с точки зрения достоверности, хотя и красивыми легендами. Тири, придерживаясь мнения об особой роли генерального сражения в стратегических планах Наполеона, показал, как император готовился к нему, принимая одновременно контрмеры против возможных ответных действий русских войск на флангах основной группировки. В отношении самого плана сражения автор целиком следовал за Коленкуром, не пытаясь вносить какие-либо собственные уточнения. Французские силы он оценивал в 120 тыс., а французские потери давал по Деннье. Русские потери, по его мнению, были около 50 тыс. человек. Какого-либо разбора хода сражения или его последствий Тири предпочел не проводить. В целом, хотя автор и старался выдержать сдержанный и беспристрастный тон, не делая каких-либо категорических выводов, он не смог сделать более, чем просто пересказать ход событий.
Не пошел далее Тири в исследовании сражения и другой автор – Жорж Блонд, издавший в 1979 г. книгу «Великая армия. 1804–1815». Блонд вновь привлек внимание к состоянию здоровья Наполеона накануне и в ходе сражения, пересказав уже известные ранее вещи. Пожалуй, только один момент в его работе все же заслуживал внимания. Приводя ставшие давно известными данные Деннье о французских потерях, Блонд счел необходимым усомниться в их абсолютной точности. По его мнению, в эти цифры не было включено значительное количество пропавших без вести, число которых не поддается учету. Реальные французские потери автор полагал в 35 тыс., русские – в 45, а то и более тысяч человек[105].
Главным образом познавательный характер носила книга Т. Транье и Ж. Карминьяни, вышедшая в 1981 г.[106] Авторы, демонстрируя уважительное отношение к стойкости русских в Бородинском сражении, вместе с тем весьма некритически воспроизвели все известные наполеоновские легенды, прежде всего о головной боли у императора как чуть ли не единственной причине нерешительных результатов «москворецкой битвы». Французские потери они оценивали в 30 тыс., русские – в 50 тыс. человек. Любопытная для широкой публики и сопровождаемая большим иллюстративным материалом, работа носила поверхностный, популяризаторский характер.
Значительно бóльшая глубина анализа была продемонстрирована Жаком Гарнье в маленьком очерке «Бородино» к знаменитому «Словарю Наполеона» Ж. Тюлара[107]. По мнению Гарнье, перед сражением Наполеон оценивал русскую позицию как сильную, но все же приемлемую для атаки. План его заключался в том, чтобы, сбросив русских с «флешей» а затем оттеснив их к «большому редуту», перейти в решительную фронтальную атаку и нанести полное поражение. Предложение Даву об обходе противника было отвергнуто как слишком опасное и не обеспеченное достаточными силами (численность французской армии Гарнье оценивал в 130 тыс.). В самом сражении автор выделил два периода: а) с 6 до 10 утра, когда центр сражения был сосредоточен у Семеновских укреплений; б) с 10 утра до 6 вечера, когда Наполеон предпринимал энергичные усилия с целью завершить оттеснение русских с оставшихся у них позиций. Последнее не удалось завершить полностью, так как, по мнению автора, Наполеон напрасно не решился ввести в дело гвардейский резерв. Потери сторон автор определял традиционно для французской историографии: 30 тыс. солдат Великой армии (из которых 9 –10 тыс. убитыми) и 50 тыс. русских (из них 15 тыс. убитыми).
В отличие от англо-американской историографии 1812 г., в которой в 70 –90-е гг. ХХ в. нашел явное отражение интерес к количественным методам в исторических исследованиях и стало ощущаться влияние некоторых направлений «новой научной истории» и даже «микроистории» с ее интересом к роли субъективного начала, во французской историографии это оказалось слабозаметным. Пожалуй, единственным исключением явилась статья генералов Бернара-Жака Ле Сеньёра и Эмиля Лакомба, в которой они на основе материалов Бородинской битвы предложили математический метод выявления степени и характера воздействия главнокомандующего на результативность боя[108]. Обратившись к работам Сегюра, Жомини, Коленкура, Шамбрэ, Бутурлина и других авторов, Ле Сеньёр и Лакомб пришли к выводу о том, что координация в действиях французских войск 7 сентября оставляла желать много лучшего, а выход из строя всего командования 1-го армейского корпуса в начальной фазе сражения вызвал вынужденное личное вмешательство в ход боя за «флеши» не только Даву, но и Нея, и Мюрата. Ле Сеньёр и Лакомб критически отнеслись к отказу императора вовлечь в сражение гвардию, так как, по их словам, «русская армия была на грани краха» и надлежащий маневр гвардией привел бы к ее (русской армии) окончательному уничтожению. В целом, делали они вывод, Наполеон, будучи болен, не проявил под Москвой своей обычной решительности, что непосредственным образом и отразилось на всем ходе сражения.
В течение 1990-х гг. французские исследователи не издали ни одной заметной работы, посвященной 1812 г. и Бородинскому сражению. Только в 2000 г. французский военный историк Ф.-Д. Уртуль опубликовал книгу «Москва-река – Бородино. Битва редутов»[109]. Уртуль отказался от последовательного и систематического описания сражения, предложив в качестве основной канвы сомнительное расписание Великой армии и собственный анализ ее потерь. Последнее оказалось в работе Уртуля наиболее интересным, так как автор попытался проверить и уточнить данные Мартиньена по офицерскому корпусу на основе просмотра персональных досье. Кроме того, Уртуль постарался вникнуть в тонкости подсчета убитых, пропавших без вести и раненых. По его мнению, пропорция между убитыми солдатами и офицерами по пехоте составляла от 10 до 15 человек солдат на одного офицера; ранеными – от 20 до 30 солдат на одного офицера. В кавалерии убитыми и ранеными: 13–14 солдат к одному офицеру. В целом, по его подсчетам, получалось, что французы и их союзники потеряли убитыми от 4 до 6 тыс. и примерно 20 тыс. ранеными (правда, автор признавал, что количество умерших затем возросло за счет тяжелораненых). Общие потери русских составили 50 тыс., причем пропорция мертвых у них была значительно большей, чем у французов. Исходя из этих подсчетов, а также из убежденности, что Наполеон имел в начале сражения 115 тыс. войск против 130–140 тыс. русских и что битва открыла ворота Москвы, Уртуль уверял, что французы одержали под Бородином грандиозную победу. Причины же поражения всей кампании автор связал с тем, что Наполеон начал войну с Россией, не завершив войну в Испании, и что он, совершенно убежденный в своей победе при Москве-реке, слишком долго ждал в Москве предложений о мире.
Несмотря на решительный тон текста книги и постоянные ссылки автора на неизвестные и малоизвестные ранее материалы, его исследование вызывает множество возражений. Так, автор полагает, что бригада Бертезена из Молодой гвардии участвовала в сражении, хотя вполне определенно известно обратное. В отношении 127-го линейного полка Уртуль предлагает обратную версию, обнаруживая незнание того, что этот полк был прикомандирован к артиллерийскому парку 1-го армейского корпуса. Как и все французские предшественники, Уртуль игнорировал обширную, хотя и разрозненную, документацию о польских и немецких частях. Остановившись на споре о том, кто же первым вошел в Большой редут, он «уличает» саксонских кавалеристов полка Цастрова в том, что они, исходя из расположения их части во время битвы, просто не могли его атаковать. При этом автор «забывает», что полк Цастрова никогда и не претендовал на честь взятия Большого редута, и речь должна идти о полке Гар дю Кор, который имел все основания заявить о своем первенстве в этом тяжелейшем деле. В целом книга Уртуля ни в коей мере не поставила под сомнение ставшую для французской историографии традиционную картину Бородинского сражения. Она стала только еще одной иллюстрацией к образу «французского Бородина»[110].
Интерес к теме вспыхнул во Франции только в связи с 200-летним юбилеем Русского похода. Прежде всего, Фонд Наполеона, работавший над многотомным изданием «Общей корреспонденции Наполеона Бонапарта», издал 12-й том, охвативший события войны 1812 года[111]. В нем оказался помещенным целый ряд до того времени неизвестных или малоизвестных документов, вышедших из-под пера (или надиктованных) императором накануне и сразу после Бородинского сражения. Хотя эти материалы не меняли общей картины событий, однако позволяли внести ряд уточнений. Так, судя по ставшему известным письму Наполеона к архиканцлеру Империи Ж. – Ж.-Р. Камбасересу от 8 сентября 1812 г., император полагал численность русской армии в 120 тыс. человек, русские потери – в 30 тыс., а свои в 10 тыс. человек[112].
Благодаря усилиям ряда французских ученых в 1812 г. был издан сборник ранее не публиковавшихся писем и мемуаров чинов Великой армии, участвовавших в Русском походе[113]. Ф. Удесек (F. Houdecek) предпослал публикации содержательное введение, в котором определил численность армии Наполеона перед сражением в 124 тыс. против 125 тыс. русских солдат и 31 тыс. ополченцев. Опираясь на работы К. Кейта, Д. Ливена и других историков, Удесек кратко воспроизвел ход сражения и назвал цифры потерь: 28 тыс. французов и их союзников (что составляло примерно 22,5 % от общей численности армии) и 44 тыс. русских (примерно 35 % численности армии, не считая ополчения). Остановившись на ставшем традиционным вопросе о том, надо ли было бросать гвардию в огонь, автор введения отметил, что полки гвардии были неполными, включая 10–12 тыс. пехоты и менее 5 тыс. кавалерии, что русские отступили в достаточно хорошем порядке и что «многочисленные» полки русской гвардии еще не были введены в дело. Поэтому император в ожидании новой битвы перед Москвой не рискнул использовать свою гвардию. День 7 сентября хотя и был чрезвычайно кровавым, но не стал решающим. Русские отошли, но не были разбиты[114]. Среди опубликованных в сборнике материалов, имеющих отношение к Бородину, оказались письма капитана О. М. Дюпена (Dupin) из 10-го кирасирского полка, своего рода воспоминания-дневник капитана Ж. Эюмара (Eymard), офицера-топографа, и выдержки из мемуаров полковника Ж. Пюнье де Монфора, начальника штаба инженеров Великой армии.
В ходе коллоквиума, организованного Фондом Наполеона, Обществом памяти Наполеона и Центром изучения истории славян Университета Париж-I 4–5 апреля 2012 г., были заслушаны сообщения двух французских исследователей, затронувших вопросы Бородинского сражения. Если В. Бажу попытался дать общую характеристику репрезентации битвы при Москве-реке в батальной живописи России, Франции и ряда других стран[115], то К. Филос затронул вопрос о потерях сторон в ходе сражения. Последний не нашел ничего лучшего, как уверенно воспроизвести цифры потерь французской армии по Деннье (6547 убитыми и 21 453 ранеными), а русские (непонятно, на основе каких данных) примерно в 15 тыс. убитыми и 30 тыс. ранеными и пленными[116].
Полагаем, что наиболее цельной и до известной степени новаторской работой, предложенной французской историографией к 200-летию Русского похода, стала книга М.-П. Рей «Невероятная трагедия. Новая история Русской кампании»[117]. Сильной стороной работы стало обращение автора к русскоязычной литературе (публикациям Е. В. Тарле, Н. А. Троицкого, к энциклопедии «Отечественная война 1812 года» 2004 г. издания и др.) и ряду источников русского происхождения. Однако автор, сориентировав свою концепцию на историко-антропологический вариант освещения прошлого, предпочла не заострять внимания на военной стороне происходивших в сражении при Москве-реке событий. По ее мнению, к утру 5 сентября у Наполеона было немногим более 140 тыс. человек при 587 орудиях, тогда как русские располагали 150 тыс. человек, из которых 114 тыс. было регулярных войск, 8 тыс. казаков и 28 тыс. ополченцев. Русская армия имела 624 орудия. Но для читателя оставалось непонятным, на основе каких материалов был сделан этот подсчет, как и подсчет потерь (русские, по утверждению автора, потеряли 45 тыс. убитыми, ранеными и выбывшими из строя, в то время как наполеоновская армия потеряла «немногим более пятой части»)[118].
Вообще же, несмотря на целый ряд интересных работ, предложенных в последние годы французскими авторами[119], военно-исторический аспект явно ускользает от их внимания.
Подведем итоги. История французской памяти о Бородине тесно связана с теми чувствами и настроениями, которые испытали французские солдаты накануне, во время и сразу после сражения. Будучи уверены в предстоящей победе перед боем, проявив редкий героизм и воодушевление во время него, они, хоть и не без сомнений, были убеждены в ее достижении. Несмотря на то что победа была неполной и она досталась небывало большой ценой, наполеоновская пропаганда и сам факт вступления Великой армии в Москву вытеснили из сознания многих солдат сомнения в отношении результатов битвы. Последовавшие затем пожар русской столицы и страшное отступление еще более оттенили в памяти славу битвы при Москве-реке.
Несмотря на объективистско-критический тон многих работ, начиная с книг Лабома и Шамбрэ, более сильной оказалась та интерпретация Бородина, которая была предложена самим Наполеоном. Она была сильна прежде всего тем, что апеллировала к естественной склонности французов чтить примеры воинской доблести своих предков[120] и черпать в памяти о них жизненные силы в годину драматических поворотов национальной истории (как, скажем, это произошло после франко-прусской войны). К тому же наполеоновская интерпретация Бородина оказалась достаточно простой и легкой для массового восприятия, сохранения и передачи ее из поколения в поколение. Несмотря на известную деформацию первичного мифа-основания (что происходило во многом под влиянием внутриполитических и внешнеполитических обстоятельств), он, в своей основе, на протяжении почти двухсот лет оставался неизменным. Именно этим преимущественно и определяется двойственность тех результатов, которые демонстрирует французская историческая наука в изучении Бородина. С одной стороны, французские историки обозначили ряд ключевых проблем (место сражения в стратегических планах Наполеона; численность французских войск, их состояние; французский план предстоящего сражения; роль, которую сыграл отказ императора от полномасштабного использования гвардии; степень и характер воздействия главнокомандующего на ход сражения; потери сторон и результаты «москворецкой битвы»), проделали значительную работу по выявлению и публикации большого массива разнообразных источников, в связи с 200-летием русской кампании 1812 года сделали доступными ряд ранее неизвестных документов и материалов, проявили определенную готовность к взаимодействию с российскими и другими зарубежными специалистами, концентрируя усилия, главным образом, на историко-антропологических аспектах войны. Вместе с тем, с другой стороны, французской историографии оказались свойственны и недостатки. Их можно свести к двум главным моментам: 1. Французские историки длительное время игнорировали, а нередко продолжают это делать и сегодня, зарубежную литературу и источники нефранцузского происхождения. Оставлены вне поля зрения многочисленные немецкие, польские, англо-американские и, особенно, русские материалы и работы. Следствием этого является не только обеднение источниковой базы, но и отсутствие у многих французских исследователей последних десятилетий какого-либо движения вперед, невозможность для них выйти за пределы уже давно обозначенной тематики и укоренившихся романтизированных мифов. 2. Обращает на себя внимание отсутствие попыток комплексного использования доступных источников, даже французских. Большая часть опубликованных во Франции документов, дневников и мемуаров до сих пор недостаточно введена в научный оборот самими французскими исследователями. Французские архивы все еще хранят в своих недрах значительные пласты еще не востребованных исследователями ценнейших материалов, которые могли бы заметно скорректировать картину событий войны 1812 года и Бородинской битвы в частности.
Полагаем, что французская историческая наука далеко не до конца реализовала свои возможности по созданию исторически достоверной картины сражения при Москве-реке.
12
Все даты, за исключением особо указанных, даны по новому стилю.
13
Бертье – Маре. Поле боя у Можайска. 7 сентября после полудня 1812 г.// AN F IV. 1649. Pl. 4. F. 409; Chuquet A. Lettres de 1812. P. 11–12. 23 сентября, получив 22-го сообщение от Бассано, парижские газеты разместили новость о победоносном для Великой армии сражении на своих полосах (Le Moniteur universel. 1812. 23 Sept.; Le Journal de l’Empire. 1812. 23 Sept.).
14
Dix-huitième bulletin // Bulletins officials… P. 99 –104.
15
Napoléon I. Correspondance. T. 24. P. 206.
16
The Letters of Napoleon to Marie-Louise. P. 67.
17
Другими причинами задержки с написанием бюллетеня были: болезнь Наполеона, огромное количество неотложных дел, отсутствие рапортов о сражении от корпусных начальников (только дивизионный генерал Ю. А. Понятовский написал рапорт прямо на поле боя уже вечером 7 сентября, в то время как, скажем, дивизионный генерал Е. Богарне, командир 4-го армейского корпуса, подписал написанный начальником штаба бригадным генералом А.-Ш. Гильемино рапорт только 10-го, находясь в Рузе).
18
Маре – К. Шварценбергу. Б.м., сентябрь 1812 г. // SHD. 2C 131. F. 44; Маре – К. Шварценбергу. Б.м., б. д. (?) // Ibidem; etc. 23 сентября в парижских газетах появились первые сообщения о битве под Бородином. «Журналь д’Ампир» поместил следующее сообщение, прибывшее явно от Маре: «Париж, 22 сентября. Выдержки из письма из Вильно, датированного 12 сентября. Император дал сражение русской армии 7 сентября у Можайска. Его величество атаковал в 5 часов утра. Неприятель полностью разбит и совершенно расстроен. В 3 часа дня Его величество энергично преследует неприятельскую армию». И далее, от имени некоего информатора: «Такова новость, которая доставлена к нам курьером, отправленным с поля битвы 7 сентября. В тот момент, когда я запечатываю мое письмо, со всех сторон раздаются пушечные выстрелы, звонят все колокола города, и я оставляю перо, дабы присутствовать на благодарственной службе, которая идет в соборе» (Journal de l’Empire. 1812. 23 Sept.).
Во многих городах Франции было произведено 100 орудийных выстрелов по случаю победы при Москве-реке (См., например: Наполеон – Кларку. Можайск, 10 сентября 1812 г. // Napoléon Bonaparte. Op. cit. № 31706. P. 1090; Телеграфная депеша из Парижа от военного министра в Анвер (Амстердам), 27 сентября 1812 г., 2 ¾ после полудня //SHD. C2 131).
19
РГАДА. Д.268. Л. 68–72, 77, 80, 150 –151об.; Д.267. Л. 25 –26об.; Д.241. Л. 1; Д.245, Л. 1–2; Д.246. Л. 7; Д.260. Л. 1 –1об.; РГВИА. Ф.151. Оп.1. Д.92. Л. 70 –70об.; ОР РГБ. Ф.41. К.165. Ед. 25. Л. 1–4; Chuquet A. Lettres de 1812. P. 24–25, 26–30.
20
Bourgeois R. Op. cit.; Durdent R. J. Campagne de Moscou, en 1812. P., 1814.
21
Васютинский А. М. Отечественная война во французской исторической литературе // Отечественная война и русское общество (далее – ОВиРО). М., 1912. Т. 7. С. 282.
22
Labaume E. Relation circonstancié… Книга Лабома выдержала множество изданий на французском, до десятка на английском и несколько на других языках, в том числе даже на испанском, датском и шведском! Далее цит. по англ. изд.: Labaume E. A circumstantial narrative of the Campaign in Russia. L., 1814. В том же духе, что и Лабом, осуждая авантюризм Наполеона, писал в те годы о Русском походе и Бородинском сражении аббат де Прадт, наполеоновский посланник в Варшаве: Pradt D. Histoire de l’ambassade dans le Grand duché de Varsovie en 1812. P., 1815. P. 187–188.
23
Las Cases A.-E.-D.-M. Mémorial de Sainte-Hélène par le Comte de Las Cases suivi de Napoléon dans l’exile par MM. O’Méara et Antomarchi… P., s. a. T. 1. P. 730 (запись от 19 июня 1816 г.).
24
Guillaume de Vaudoncourt F.-F. Mémoires pour servir á l’histoire de la guerre entre la France et la Russie, en 1812. L., 1815. T. 1–2.
25
Larrey D.-J. Op. cit.
26
[Puibuisque L.-G.] Lettres sur la guerre de Russie en 1812. P., 1816 (2-е изд. было в 1817 г.). Русский перевод: Пюибюск. Письма о войне в России 1812 г. М., 1833.
27
Bulletins officials… P. 125–136. В 1812 г. большая часть рапортов была опубликована в: Le Moniteur universel. 1812. 2 Nov.; Le Journal de l’Empire. 1812. 3 Nov.
28
Chambray G. Histoire de l’expédition de Russie. P., 1823. T. 1–2. Второе и третье парижские изд. были в 1825 и 1838 гг. Все последующие ссылки на последнее 3-томное изд.
29
Chambray G. Op. cit. T. 2. P. 24.
30
Ibid. P. 33, 246. Note 11.
31
Ibid. P. 57.
32
Ibid. P. 61.
33
Ibid. P. 65–66, 69.
34
Mémoires pour servir á l’histoire de France sous Napoléon, écrits à Sainte-Hélène par les généraux qui out partagés sa captivité. P., 1822–1825. T. 1–8.
35
Las Cases A.-E.-D.-M. Mémorial de St. – Hélène. P., 1823. T. 1–2. Далее цит. по изд.: Las Cases A.-E.-D.-M. Mémorial de Sainte-Hélène. P., s. a. T. 1–2.
36
Цит. по: Собуль А. Герой, легенда и история // Французский ежегодник. 1969. М., 1971. С. 234.
37
О методах работы Наполеона над историческими сочинениями см.: Gonnard Ph. Les origins de la légende napoléonienne. P., 1906; Собуль А. Указ. соч. С. 233–254.
38
Las Cases A.-E.-D.-M. Op. cit. T. 1. P. 165 (запись от 6 ноября 1815 г.), Р. 454 (запись от 18 июня 1816 г.), Р. 457 (запись от 28 апреля 1816 г.); Т. 2. Р. 143–144 (запись от 24 августа 1816 г.), Р. 391 (запись от 6 ноября 1816 г.); O’Méara. Napoléon dans l’exil // Las Cases A.-E.-D.-M. Op. cit. T. 2. P. 639 (запись от 14 февраля 1816 г.); Montholon. Histoire de la captivité de St.Hélène. Bruxelles, 1846. T. 2. P. 97–98 (запись от 17 апреля 1821 г.).
39
Montholon. Op. cit. P. 97–98.
40
Las Cases A.-E.-D.-M. Op. cit. T. 2. P. 143–144 (запись от 24 августа 1816 г.), Р. 342 (запись от 25 октября 1816 г.); O’Méara. Op. cit. P. 697–698 (запись от 10 октября 1817 г.); Montholon. Op. cit. P. 180, 228.
41
Las Cases A.-E.-D.-M. Op. cit. T. 2. P. 340.
42
O’Méara. Op. cit. P. 698 (запись от 10 октября 1817 г.).
43
Так как Н. А. Троицкий в свое время оспорил общепринятый перевод этой фразы, утверждая, что следует переводить ее начало как «Битва при Москве-реке была одной из тех битв…» (Троицкий Н. А. 1812. Великий год России. М., 1988. С. 178), приведем дословную запись Лас Каза от 28 августа 1816 г.: «Celle de la Moskowa, disait-il, était une celles où l’on avait déployé le plus de mérite et obtenu lemoins de resultants» (Las Cases A.-E.-D.-M. Op. cit. T. 2. P. 166).
44
Ségur Ph-.P. Histoire de Napoléon et de la Grande Armée pendant l’année 1812. P., 1824. T. 1–2. Книга Сегюра переиздавалась, по крайней мере, более 30 раз во Франции, не менее полутора раз на немецком, более 10 раз на английском и других языках. Существующие русские переводы, к сожалению, очень слабые и неполные: Сегюр Ф. П. Бородинское сражение. Киев, 1901; Его же. Поход на Москву в 1812 г. М., 1911; Его же. Поход в Россию. М., 1916; и др.
45
Gourgaud G. Napoléon et la Grande Armée en Russie, ou Examen critique de l’ouvrage de M. le comte Ph. de Ségur. P., 1825. Более 10 раз книга Гурго издавалась на французском и множество раз на других языках.
46
Конфликт между Сегюром и Гурго сослужил историкам великую службу. Сегюр, пытаясь подтвердить свои тезисы о болезни Наполеона накануне, в день и после Бородинского сражения, обратился ко многим остававшимся в живых участникам Русского похода. Многие из них, в том числе бывшие адъютанты императора Ж.А.Б.Л. Лористон, Ж. Мутон, главный интендант Великой армии М. Дюма, государственный секретарь П.А.Н.Б. Дарю, личный врач покойного императора Э. О. Метивьер и другие лица, наблюдавшие императора в сентябре 1812 г., представили Сегюру свои письменные свидетельства о состоянии здоровья Наполеона в те дни. Эти свидетельства в числе 35 до сих пор до конца не введены в научный оборот (AN 36 AP 1).
47
Пеле Ж. Бородинское сражение // Чтения в обществе истории и древностей российских (далее – ЧОИДР). 1872. Кн. 1. М., 1872.С. 56. Примеч. 2.
48
Там же. С. 59. Примеч. 7.
49
Fain A.-J.-F. Op. cit.
50
Boutourlin D. Histoire militaire de la campagne de Russie en 1812. P., 1824.
51
Bausset L.-F.-J. Op. cit.
52
Jomini A.-H. Vie politique et militaire de Napoléon, racontée par lui meme au tribunal de César, d’Alexandre et de Frédéric. P., 1827. T. 1–4. Русский перевод: Жомини А. Политическая и военная жизнь Наполеона. СПб., 1840. Ч. 1–5. Далее цит. по 2-й части 3-го русского изд. 1844 г.
53
Жомини А. Политическая и военная… С. 281.
54
Там же. С. 290.
55
Жомини А. Очерки военного искусства. М., 1939. Т. 2. С. 18.
56
Жомини А. Политическая и военная… С. 291, 293–296.
57
Жомини А. Политическая и военная… С. 299–301.
58
Pélet J.-J.-J. Bataille de la Moskowa // Spectateur militaire. Т. 8. 1829. P. 112–158. Русский перевод, ранее указанный, выполнен вполне сносно. Далее цит. по русскому переводу. Материалы, связанные с работой Пеле над этой публикацией, см.: SHD. 1 M 673.
59
Пеле Ж. Указ. соч. С. 59.
60
Там же. С. 78–79.
61
В русском переводе (С. 90) опечатка: вместо «97» тыс. русских убитых следует читать «9».
62
Gouvion Saint-Cyr L. Mémoires. P., 1831. T. 1–4. Русский перевод четырех страниц 3-го тома (Р. 267–270), касавшихся Бородинского сражения, помещен в приложении к русскому изд. Пеле (С. 109–111). Мемуарам Сен-Сира предшествовала публикация более краткого дневника: Gouvion Saint-Cyr L. Journal. P., 1821.
63
Caulaincourt A.-A.-L. Souvenirs du duc de Vicence. Bruxelles, 1838. T. 1–2. Более полное изд., сопровождавшееся хорошими примечаниями, среди которых помещены выдержки из «Дорожного дневника» Коленкура, вышло в 1933 г.: Caulaincourt A.-A.-L. Mémoires. Основное русское изд.: Коленкур А. Мемуары. Поход Наполеона в Россию. М., 1943. Далее цит. по 2-му французскому изд. 1933 г. или по указанному русскому изд.
64
Dumas M. Op. cit.
65
Denniée P.-P. Op. cit.
66
Ibid. P. 80. Note 1.
67
Ibid. P. 186–188.
68
Ibid. P. 80. Note 1. Ниже мы еще остановимся на проверке этих цифр.
69
Dumas A. Napoléon. P., 1840. P. 172–194.
70
В 1858 г. А. Дюма побывает на Бородинском поле и заметно обогатит свои «хрестоматийные» сведения живыми впечатлениями (Дюма А. Путевые впечатления в России // Дюма А. Собр. соч.: В 3 тт. М., 1993. Т. 3. С. 63–82). До Дюма французские беллетристы уже не раз обращались к теме Бородина, например, П. Мериме, напечатавший в 1829 г. (Revue Française. 1829. № 11) рассказ «Взятие редута» и талантливо передавший чувство солдатского фатализма. Мериме описал взятие Шевардинского редута, явно домыслив многие обстоятельства дела.
71
Saint-Hillaire E.-M. Histoire de la campagne de Russie pendant l’année 1812. P., 1846. T. 2. Переизданная в 2003 г. А. Пижаром книга Сент-Илера сопровождается рядом новых документов.
72
Мишле Ж. История XIX века. СПб., 1884. Т. 3. С. 291.
73
Chapuis F. Bataille de la Moskowa // Biblioteque historique et militaire. P., 1853. T. 7; Berthezéne P. Souvenirs militaires de la République et de l’Empire. P., 1855. T. 2.
74
Berthezéne P. Op. cit. P. 54–55. Note 1.
75
Thiers L.-A. Histoire du Consulat et de l’Empire. P., 1856. T. 14.
76
Собуль А. Указ. соч. С. 235.
77
Мы пользовались 2-м изд. Ланфрэ, вышедшим позже и в котором описание кампании 1812 г. содержится в 6-м томе: Lanfrey P. Histoire de Napoléon I. 2-ème éd. P., 1875. T. 6.
78
Thiers L.-A. Op. cit. P. 313, 315.
79
Ibid. P. 348–349.
80
[Du Casse A.] Op. cit.
81
Napoléon I. Correspondance. T. 23–24.
82
Pelleport P. Op. cit.
83
Ibid. P. 28. Note.
84
Fézensac M. Souvenirs militaries. P., 1863. Краткий вариант мемуаров: Journal de la campagne de Russie en 1812. P., 1849. Далее цит. по: Fezensac M. The Russian Campaign, 1812. Athens, 1970.
85
Fezensac M. Op. cit. P. 39.
86
Friant J.-F. La vie militaire du lieutenant-général comte Friant. P., 1857.
87
Girod de l’Ain. Dix ans de mes souvenirs militaires. P., 1873 (мы воспользовались отрывками из этого изд., опубликованными в: Bertin G. La campagne de 1812 d’après des temoins oculaires. P., 1895); Brandt H. Souvenirs d’un officiers polonais. P., 1877; Pion des Loches A.-A. Op. cit.; Thirion (de Metz) A. Souvenirs militaires. 1807–1818. P., 1892 (русское изд.: [Колюбакин Б.М.] 1812 год. Воспоминания офицера французского кирасирского № 2 полка о кампании 1812 года. СПб., 1912); Dupuy V. Op. cit.; Boulart J.-F. Op. cit.; Seruzier T.-J.-J. Op. cit.; Le Manuscrit des carabiniers; Le Roy C.-F.-M. Op. cit.; Castellane E.-V.-E.-B. Op. cit.; Fantin des Odoards L.-F. Op. cit.; Planat de la Faye N.-L. Op. cit.; Bourgogne A.-J.-B.-F. Mémoires du sergent Bourgogne. P., 1896 (первое, более краткое изд., было в 1857 г.; далее цит. по парижскому изд. 1900 г. или по изд. 1979 г.: The memoires of Sergeant Bourgogne. 1812–1813. London; Melbourne; New York, 1979); Vionnet de Maringoné L.-J. Op. cit.; Dutheillet de Lamothe A. Op. cit.; Bellot de Kergorre A. Op. cit.; Méneval C.-F. Mémoires pour servir à l’histoire de Napoléon… P., 1894 (мы использовали английское изд.: Memoires to serve for the History of Napoleon I. L., 1894. Vol. 3).
88
См., например: Arvers P. Histoire du 82-e Régiment d’infanterie de ligne et du 7-e Régiment d’infanterie légère. 1684–1876. P., 1876; Martimprey. Historique du 9-e Régiment de cuirassiers. Paris; Nancy, 1888; Lassus. Historique du 11-e Régiment de hussards. Valence, 1890; Bouchard S. Histoire du 28-e Régiment de dragons. P., 1893.
89
Dessaix J., Folliet A. Le général Dessaix. Sa vie politique et militaire. Chambery; Paris; Genève, 1879; Boppe P. Les Espagnols…; Idem. La Croatie militaire. Les regiments Croates à la Grande Armée. Paris; Nancy, 1900.
90
Rambaud A. Français et Russes. Moscou et Sévastopol. 1812–1854. P., 187; Pingaud L. Les français en Russie et les russes en France. P., 1886. Российский читатель хорошо знаком с главой, написанной Рамбо о Бородинском сражении в «Истории XIX века»: История XIX века / Под ред. Лависса и Рамбо. 2-е изд. М., 1938. Т. 2. С. 262–265.
91
Rambaud A. Op. cit. P. III–XXI.
92
Ibid. P. 152–155. Рамбо приводил русские потери по М. И. Богдановичу, указывая, что из 58 тыс. 10 тыс. были отбившимися от своих частей солдатами.
93
Martinien A. Tableaux… Напомним, что в 1909 г. Мартиньеном было опубликовано дополнение к этому изданию (Idem. Tableaux… Partie supplémentaire).
94
Fabry G. Op. cit. В приложении к 3-му тому было опубликовано несколько карт из архива Военного министерства в качестве образца тех, которыми французы пользовались в 1812 г.
95
[Derrecagaix]. Le maréchal Berthier. P., 1905. T. 2; Idem. Le général comte Belliard. P., 1908.
96
Chuquet A. 1812…; Idem. Lettres de 1812.
97
Ternaux-Compans H. Op. cit.
98
Dedem de Gelder. Op. cit.; Biot H.-F. Op. cit.; François C. Op. cit.; d’Anthouard. Notes et documents… // Carnet de la Sabretache. Sér. 2. № 162. 1906. Juin; Bertrand V. Op. cit.; Griois L. Op. cit.; Henckens J. L. Op. cit.; Teste F.-A. Op. cit.; Bonnet. Op. cit.; Laugier. La Grande Armée, recit de… P., 1910 (Первое изд. вышло в Италии: Gli Italiani in Russia. Firenze, 1826–1827. T. 1–4. Русское изд., переведенное с французского: Ложье Ц. Дневник офицера Великой армии в 1812 г. М., 1912); Lagneau L.-V. Op. cit.; Lettres interceptées…; Bro L. Op. cit.
99
Madelin L. Histoire de Consulat et de l’Empire. P., 1949. T. 12.
100
Ibid. P. 163.
101
Fugier A. La Révolution française et l’Empire napoléonien. P., 1954. См. также: Сироткин В. Г. Война 1812 г. в общих работах современных историков Франции // История СССР. 1962. № 6. С. 181–191.
102
См., например: Gaulle Ch. La France et son armée. P., 1973.
103
Grünwald C. La campagne de Russie. 1812. P., 1963.
104
Thiry J. La campagne de Russie. P., 1969.
105
Blond G. La Grande Armée. 1804–1815. P., 1979. P. 345.
106
Tranie J., Carmigniani J.-C. La campagne de Russie. Napoléon – 1812. P., 1981.
107
Garnie J. Borodino // Dictionnaire Napoléon. P., 1987. P. 269–270.
108
La Seigneur B.-J., Lacombe E. La valeur du commandement: l’example de la Moskowa // Revue historique des armies. 1990. Vol.181. P. 64–72.
109
Hourtoulle F.-G. La Moskowa – Borodino. La Bataille des Redoutes. P., 2000 (Есть русское изд.: Уртулль Ф.-Г. 1812. Бородино. Битва за Москву. М., 2014).
110
Известный интерес имела в эти годы публикация новой биографии маршала Даву (Charrier P. Le maréchal Davout. P., 2005).
111
Napoléon Bonaparte. Op. cit.
112
Наполеон – Камбасересу. Бородино, 8 сентября 1812 // Ibid. № 31677. P. 1080. Письмо было воспроизведено по неподписанному отпуску. Имелась пометка, сделанная А.-Ж.-Ф. Фэном: «Его величество, сев на лошадь, распорядился, чтобы это письмо осталось без подписи». Подробнее см.: Земцов В. Новые французские документы о Бородинском сражении.
113
Du Niémen à la Bérézina.
114
Ibid. P. 19–21.
115
Bajou V. Un siècle de représentation de la bataille de la Moskova // 1812, la campagne de Russie. Histoire et postérités. P., 2012. P. 117–127.
116
Fileaux C. La bataille de la Moscova – 7 septembre 1812. Récit // Ibid. P. 111–115.
117
Rey M.-P. L’effroyable tragédie. Une nouvelle histoire de la Campagne de Russie. P., 2012 (русское изд.: Рэй М.-П. Страшная трагедия. Новый взгляд на 1812 год. М., 2015).
118
Ibid. P. 152–153, 163.
119
Так, известный французский историк президент Института Наполеона Ж.-О. Будон, также выпустивший в 2012 г. книгу, посвященную русской кампании (Boudon J.-O. Napoléon et la campagne de Russie 1812. P., 2012), вообще не стал затрагивать вопросы численности войск и потерь, как и другие аспекты, обычные при описании военных действий, предпочтя схематичное изложение хода сражения и заявив, что «битва при Москве-реке открыла ворота Москвы». См. другие работы французских авторов: Damamme J.-C. Les aigles en hiver. Russie 1812. P., 2009 (русское изд.: Дамам Ж.-К. Орлы зимой. Русская кампания 1812 года. СПб., 2012. Кн. 1–2); Bregeon J.J. 1812: La Paix et la Guerre. P., 2012; и др.
120
См., например: Girarder R. Les Trois couleurs. Ni blabc, ni rouge // Les lieux de mémoire / Sous la direction de P. Nora. P., 1984. T. 1. P. 5 –35.