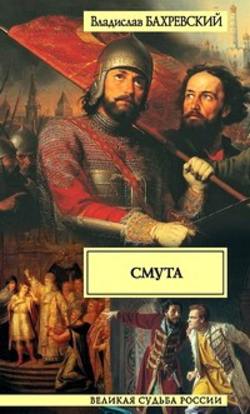Читать книгу Смута - Владислав Бахревский - Страница 4
Книга первая
Гора лжи
ОглавлениеВ персидском, цвета зимородка, халате, на персидском ковре перед татарским мангалом с ароматическими углями, с шелковой китайской подушкой под боком, возлежал, щелкая бухарские фисташки, боярин Петр Федорович Басманов.
– Корова коровой и вздыхает-то по-коровьи! Не пускать их больше никого! – Басманов капризничал, и ему были приятны его капризы.
К нему тащатся по колено в грязи, под ветром, под осатанелым дождем, к нему, к новоиспеченному боярину.
Кто самих-то выпекал? Не Борис ли Федорович?! Мерзавцы! Все мерзавцы!
Князь Дмитрий Мосальский, который только что коровьей трусцой утек от опасного Басманова, разговоры свои на ухо шептал. Разразись беда – донесет, свои воровские слова на Басманова навешает.
– А дело-то уж решенное.
Перед Мосальским в землянке второго воеводы Большого полка были Михаил Глебович Салтыков по прозвищу Кривой, Иван Васильевич Голицын, псковский воевода Петр Никитич Шереметев. Приходили по двое, по трое от тульских дворян, от каширских, алексинские были. И все с намеком: не поклониться ли природному государю Дмитрию Иоанновичу – тогда и войне конец?
Встала перед глазами толстая, потная рожа Андрюшки Телятевского.
– Эх, Федор Борисыч! Федор Борисыч! Батюшка твой – не в пример тебе, задабривать был мастак. А главное – того ласкал, от кого проку больше.
То было правдой. Басманова Борис Годунов озолотил – деньгами, поместьями, боярство пожаловал. Всей заслуги – не сдал Самозванцу Новгород-Северский. А вот Федор Борисович не посмел, себя спасая, послать Басманова под Кромы первым воеводой. Дума первенство отдала родовитому Катыреву-Ростовскому. Басманов лишь в товарищах. Такое еще можно было стерпеть. Но когда Семка Годунов беспечным своеволием, мимо Думы, мимо вдовы-царицы и уж конечно не спросясь умненького царя-книгочея, пожаловал зятя своего Андрюшку Телятевского воеводой Сторожевого полка, взыграли бесы в крови. Позабыл, видно, Семка, чьей он породы – Петр Басманов.
Ярость сорвала боярина с ковра, прошел за занавеску к Микешке.
– Воды!
Микешка, огромный детина, пробудясь от дремы, вскочил с лавки, черпнул ковш воды, подал.
– Умыться, дурья башка!
– Да ведь ночь, Петр Федорович.
– Лей!
Подставил руки, плеснул воду в лицо.
– Еще давай!
Махнул поданным полотенцем сверху вниз, опять к мангалу, сладким восточным духом дышать. Горько было и пусто.
«Кому служить? Безусому царю? Марии Григорьевне? А не прошибают ли царицыну шапку Малютины козлиные рога?»
Петр Федорович не догадывался вспомнить, какие рога были на голове деда-опричника, боярина, дворецкого, любимца Иоаннова, и какие у отца-опричника, Иоаннова кравчего.
Отца замучил в тюремном застенке Малюта, батюшка Марии Григорьевны, дедушка Федора Борисовича. Великий был затейник придумывать мучительства.
Кипело в душе Петра Федоровича, как в кромешной дегтярной яме. Но коротка была его память. Мог бы, поднатужась, и за дедушку обидеться. Дедушку, угождая Грозному, пытал и казнил батюшка.
– За того, кто вернул меня и род Басмановых из небытия, живот положить не жалко. И я ли не служил Борису? Но стоит ли умирать за господина, который не смеет защитить честь слуги? – Так складно придумалось, что совесть поутихла и на место стала.
Басманов, приехав под Кромы, узнал о тайноходцах, шмыгавших от князя Василия Васильевича Голицына в Путивль, к расстриге, и от расстриги к боярам, к дворянам, к посошным мужикам, забранным в войско.
Скоро понял: на него все смотрят, от него ждут, куда оглобли заворачивать. Как он, так и все.
Стоило ему вслух сказать, что не дело мужиков от земли войной отваживать, весна, сеять пора, как тотчас и пошли к нему… А вот Василий Васильевич не торопился пожаловать. Брат его Иван сам по себе приходил.
Воздух, мокрый, пахнущий погребом, качнул пламя догорающей свечи.
– Не князь ли Голицын? – Басманов, заранее улыбаясь, поднялся с ковра.
– Нет, – ответил Микешка, – рязанцы Ляпуновы, Захар и Прокопий.
Басманов в досаде сел было на ковер спиной к двери, но тотчас и опамятовался: братья Ляпуновы люди пылкие, где они, там и толпа.
Вошли, стали на пороге, ожидая приглашения. Один высок, косая сажень в плечах. Борода русая, глаза серые, радостные, под черными бровями играючи горят, нос аккуратный, губы розовые, щеки румяные – любая молодица красоте позавидует.
Другой в плечах о двух косых саженях, ниже на голову, живот прет, как бочка, но грудь бочастее, железного панциря налитее.
– Захарий Ляпунов, – пророкотал тот, кто был ниже.
– Прокопий, – сказал второй и тоже не покланялся, лишь глаза ресницами прикрыл.
– Садитесь на ковер. Лавками не обзавелся! – И крикнул: – Микешка, неси!
Микешка тотчас явился и поставил на ковер круглый татарский поднос с кусками холодной баранины, с караваем, с чарами для водки и саму водку в просторной сулее.
– Выпейте с мокрени. Холодно, чай.
– Холодно, – согласился Захар, наливая питье себе, брату и хозяину.
– Слышь! – сказал Прокопий, уставя глаза на все десять перстней на руках Басманова. – Слышь! Говорят, царевич к королю подался.
Басманов выпил водку и принялся закусывать. Прокопий не пил, ждал ответа.
– Врут, – сказал Басманов, переставая жевать.
– Говорят, что не истинный царевич-то! Говорят, что это змей, вражий дух, прельстивший всю землю.
– То вонь телятевская! По запаху чую! – вспыхнул злобой Басманов.
– Ну, коли так… – Ляпуновы выпили водку и взяли по куску мяса.
Ели, пили и ждали, что скажет им Басманов, и того стали разбирать веселость и приятство – сидеть за трапезой со столь простецкими на вид, но зело хитрющими рязанцами. И тогда он сказал:
– Ко мне тут многие ходят, а я до сих пор не знаю, что сулит нам всем царевич Дмитрий Иоаннович, природный русский государь.
Захарий ткнул тяжеленной, как у Ильи Муромца, десницей в сторону брата.
– Меня уж два раза секли, пусть он говорит, несеченый. – За что же секли-то?
– Один раз местничался невпопад, другой раз получил от Бориса Федоровича за казаков. Посылал на Дон свинец, селитру, серу, панцирь да шапку железную.
– За наше дело сечь не станут, – проиграл глазами Прокопий, – повесят.
Достал из-за пазухи письмо.
– Почитай, коли не читал, Петр Федорович.
«Знайте, – писал Самозванец в грамоте, – буду в Москве, как на дереве станет лист разметываться. Вас, бояр, войско и народ извиняю, что присягнули Годунову, не ведая злокозненного нрава его и боясь мести его, ибо при брате нашем царе Федоре владел он, нечестивец, всем Московским государством, жаловал и казнил кого хотел, а про нас, прирожденных государя своего, не знали, думали, что мы от изменников наших убиты. Награды будут всем, кто нас не забыл и станет служить, как служили отцу моему, царю Иоанну. Изменникам – гнев мой, и гнев Божий, и поношение всякое, и казнь страшная».
– А верно ли, что он истинный царевич? – спросил вдруг Басманов.
– Коли бы Дмитрий Иванович не был тем, кто есть, зачем нам было к тебе приходить, – по-медвежьи прохрипел Захарий.
Прокопий, опрокинув глаза в самого себя, сказал иначе:
– Царь Борис силою всю зиму продержал нас здесь, в болоте. Через неделю-другую мужики не посеют поля – опять голоду быть.
– Что верно, то верно. – Басманов разлил остатки водки. – Чтоб спалось лучше. А завтра поутру запалите в лагере все, что горит, и порешим дело к общей пользе.
За Ляпуновыми дверь еще не затворилась, пожаловал-таки человек от Голицына, дворянин Мишка Молчанов, принес договорную запись с Дмитрием Иоанновичем. Одной только ненависти к Годунову, к равному им, но правившему ими, с лихвой боярам хватило запродать престол «царевичу» не задорого. Всего и просили, чтоб бояре остались при своих землях и почестях и чтобы он, природный государь, уберег на Руси православную веру да не пускал в Боярскую думу иноземцев. Во дворце пусть служат, можно и поместья раздать, и города, коли много порадели государю, пусть костелы поставят, коли захотят по-своему молиться. Лишь бы не писать их в книги, чтобы не местничались с русскими родами, не теснили исконного благородства.
– Пусть утром готов будет твой князь, – наказал Молчанову Басманов и, отпустя дворянина, прежде всего сжег воровские грамоты Самозванца.
Утром первыми словами Петра Федоровича была не молитва.
– Не оценили вы меня, Малютино семя, оценит он, семя Иоанново!
Микешка был уж вот он, по сапогу в руке.
Утром 7 мая 1605 года в царевом лагере под Кромами вспыхнули пожары и поднялась такая бестолочь, словно все пятьдесят тысяч войска встали не с той ноги.
На виду воевод, и стрельцов, и дворянской конницы – по наплавному мосту в казачий лагерь атамана Корелы ушел боярин Басманов с тремя-четырьмя сотнями верных ему рейтар.
– Басманов! – не верил глазам своим атаман Корела. – Неужто наша взяла?!
– Не взяла ваша! Не взяла! – вспыхнул норовистый боярин, указывая на развернутые знамена и на железный блеск панцирей. То построилась, ожидая приказаний, немецкая наемная пехота Бориса Годунова.
Весь же лагерь превратился в муравейник. Люди снова туда-сюда, и было бы то беганье бессмыслицей, когда б не совесть. Со своей совестью мыкались дворяне, стрельцы, посошное мужичье.
Два крика стояло над лагерем. Один крик: «Да хранит Бог Дмитрия!», другой крик: «Да хранит Бог Федора Борисовича!»
Куда пристать? Кто из двух истиннее?
Презрение и злость были во взорах Басманова: презирал казаков, самого себя, но всего более гомонящую бестолочь царева лагеря, где одних пушек больше трех сотен. Позвал к себе доктора своего, немца.
– Поезжай к капитану фон Розену, скажи ему слово в слово: «Присягай законному государю Дмитрию Иоанновичу. Годуновы есть похитители престола его отца».
Проворные братья Ляпуновы с рязанскими, тульскими, каширскими дворянами сотнями захватили наплавной мост и держали его, призывая на помощь конницу Корелы.
Умные люди, не дожидаясь, пока их убьют, свои ли посошные мужики или свирепые донцы, садились на коней и – бог с ним, с добром, с провиантом, с оружием, – скакали прочь, во глубину России, домой. Пусть хватские люди разбираются, кто дороже на царстве, Дмитрий или Федор.
Князь Телятевский, видя, что дело Годуновых гибнет, а стало быть, и его дело, кинулся к пушкам.
– Стойте твердо! – уговаривал он пушкарей. – За государя! За Федора Борисовича! Щедрость Годуновых вам известна.
Пушкари стояли, да не стреляли. Им надо было приказать. Телятевский потел от страха, но так и не решился палить по своим, хоть и видел: ахнуть разок по наплавному мосту, все и разбегутся как тараканы.
Пушки промолчали, а казаки Корелы – вот они. Скакали по лагерю, награждая плетками бегущих куда попало, переставших быть воинами, сбитых с толку людей.
За Дмитрия или за Федора?
В цари Бог возводит, Богу бы и решать.
Князь Василий Васильевич Голицын, смело торговавший не своим престолом, когда дошло дело до себя самого, перепугался до медвежьей болезни и в конце концов приказал связать себя и везти к Дмитрию Ивановичу как бы силою.
Мятежников было вдесятеро меньше, но Телятевский и Катырев-Ростовский бежали в Москву, бросив полки, верные Федору Борисовичу.
12 мая в Путивль к царевичу Дмитрию пришло на поклон русское воинство: стольники, московские дворяне, дворяне городовые, дети боярские, жильцы, стрелецкие головы, полковники, купечество, кормившее армию, выборные от черных сотен, что были при лошадях, при обозах. Привел толпу поспешивших поклониться новому истинному государю князь Иван Васильевич Голицын.
– О государь! Прирожденный и праведный! Да сокруши же ты поскорее змеиное гнездо ненавистных всякому русскому человеку, скудоумных Годуновых! Обещался Бориска всех богатыми сделать – и все ныне нищи, обещался накормить голодных – все были голодны, как скоты, траву ели, кору драли хуже зайцев. Приди, государь, на Москву и возьми. Ворота сами собой распахнутся при виде тебя, солнца нашего! Войска, противостоявшие под Кромами, ныне соединились и ждут тебя!
Глаза тянулись к царевичу, ища в лице его истинное царское благоволение и величие, но более из любопытства: столько лет шепчут по всей Руси про этого человека, а он вот, потрогать можно.
Платье польское, переливчатое. Шапку ради гостей снял. Лоб, как у молодого быка, в обе стороны широк, волосы причесаны гладко, лен с медью. Возле носа две здоровенные бородавки. Нос над безусою губою увесистый, вроде мужицкого лаптя. Борода не растет. Лицо белое, словно под полом держали человека. А может, и держали, коли спасся от борзых царя Бориса. Глаза глядят прямо, ни цвета в них, ни искры. Тяжелые глаза. Руки толстые, одна висит чуть не до колена, другую за пазухой держит. Говорят, короткая.
Улыбнулся. И у всех полегчало на сердце. Милый, грустный человек стоял перед толпой. Сколько ведь пережито им? Ни детства не было, ни молодости. Ни отцовского наставления не знал, ни материнской ласки. Так зверьки лесные живут. От мамкиной титьки оторвался – и всем чужой, по чащобам хоронись, дрожи, покуда силы нет.
– Мы с матушкой моей, с царицей, со старицей Марфой, доброту поставили выше богатства и выше ума. Всякому совестливому человеку, какого бы звания он ни был, – наши сердца всегда будут отворены. Радуюсь, что народ мой правдою жил, правдою жив и, даст Господь, правдою удостоится жизни вечной.
Смахнул слезу короткою рукой и склонил голову, слушая радостный вопль:
– Радуемся, истинный государь! Истина водворяется на Руси! Радуемся!
Вся толпа, как один человек, разом опустилась на колени.
Придя к себе во внутренние покои, Дмитрий Иоаннович возлег на постель, не снимая сапог. Лицо его было бледным, пот сочился по опавшим от бессилия вискам.
К нему тотчас пожаловал иезуит Лавицкий.
– Они узнали меня! – сказал Дмитрий Иоаннович. – Они кричали: «Радуемся!», но я по глазам их видел: лгут. Все лгут!
– Коли и лгут, так единодушно и с охотою! – возразил иезуит.
– Они убьют меня.
– Меры предосторожности никогда не лишни. Мы будем ставить наш лагерь в миле от лагеря твоих воевод. Твоих воевод, государь!
И, глядя в глаза своего подопечного, говорил по-польски, и по-латыни, и по-русски.
– Ты теперь государь! Ты есть истинный государь! Ты – надежда и опора русских.
Дмитрий Иоаннович явственно чувствовал: иезуит цепляет крючками его сокровенную душу и, окровавленную, тащит ее к себе, растягивает, как растягивают телячьи шкуры.
Русские и впрямь напрягали память друг перед другом, да не при третьем – упаси господи! – научены Борисом Федоровичем.
– Сдается мне, видел я его! Гришка! Гришка Отрепьев.
– Да хоть и Гришка! Куда теперь денешься!
Деваться было некуда.
И ликовали, когда государь являлся перед войском с поляками за спиной, и шли на Москву.